У памяти свои законы
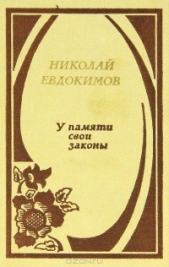
У памяти свои законы читать книгу онлайн
Новый роман Николая Евдокимова — правдивое, острое произведение, повествующее об ответственности советских людей друг перед другом и перед обществом.
Написанный со свойственным Н. Евдокимову лиризмом, с тонким проникновением в психологию героев, роман ставит ряд важных морально-этических проблем.
Занимательность сюжета, жизненная достоверность, своеобразная композиция этого произведения несомненно увлекут читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Лентяйка! — сказала она. — Сама расхлябанная и дочь такую же воспитала.
— Не пропадет!
— Ну и мать! Девчонка исчезла, а ей хоть бы что.
— Найдется.
Вообще-то я только вид делала, что не волнуюсь, а на самом деле я не то чтобы волновалась, но сердилась на Варвару. Она исчезла неделю назад, не сказав ничего, оставив только записку, что едет погостить в горы к подруге. А мать этой подруги собственной персоной заявилась позавчера на базар. Оказывается, Варвара и носа к ним не показывала. Очередной номер моей дорогой доченьки. Объявиться-то она объявится, но куда исчезла?
— Я уже три страницы написала, пока ты прохлаждаешься, — сказала Аня.
— Мало! Науку нельзя двигать такими темпами. Надо десять страниц.
Я встала, набрала воды в таз, отнесла Ане. Вытащила из-под кровати судно, пошла выносить. Когда вернулась, Аня стыдливо, как и всегда, сказала:
— Спасибо.
До сих пор она стесняется, что мы выносим судно, и каждый раз считает своим долгом сказать это не нужное никому «спасибо».
— Пожалуйста, — ответила я. — А теперь в поход, ну!
— Погоди, дай красоту наведу.
Я взяла таз, бросила ей полотенце.
— Тебе бы все о красоте думать.
Она действительно красива. И вообще вся она женщина. И телом и повадками. Многие годы она проработала агрономом где-то в сибирской тайге, но эта работа не огрубила ее — лицо нежное, молодое не по возрасту. Ей бы хорошую семью, детей, но жизнь и тут обошла ее: муж погиб на войне, едва они поженились, детей она не успела нарожать, как не успела найти и другого мужа. Так и осталась одна-одинешенька, чтобы коротать век у чужих людей.
— Ну, — сказала я, — шагом марш!
— Есть! — ответила она, откинула одеяло.
Ноги ее были тонки и сухи, как спички. Я давно привыкла к страшному их виду, но все равно каждый раз, когда видела ее хилое, обескровленное тело, словно ком застревал в горле. Ноги были мертвы, как ветви засохшего дерева. Мертвы! Увядшее дерево не вернешь к жизни. Парализованному телу не скажешь «встань и иди», как в библейской легенде. Но Анна сказала. Вот уж год, как здесь, в моем доме, совершается это непостижимое чудо.
Я помогла ей встать на пол. Хотела дать костыли.
— Нет, — сказала она. — До стола сама.
И сделала шаг. Другой. Маленькие шажки. Крошечные шажки. Еще один, еще. Пошатнулась. Растопырила руки. Остановилась.
Стоит она хорошо. Этому мы научились давно, а научиться стоять было, наверно, еще труднее, чем теперь делать крохотные шаги. Месяц мы учились стоять. Хотя бы несколько секунд. Месяц она не могла удержаться на ногах, висла на мне. И вот простояла минуту. Потом две. Двадцать минут. Час. Три часа! Три часа простаивала у кровати, плача и смеясь. Но когда решилась передвинуть ногу, упала. И еще месяц, бесконечный месяц, она пыталась сделать шаг. И сделала. А теперь, теперь мы уже десятками считаем шаги, за третью сотню перевалили.
— Хватит стоять, — сказала я. — Иди.
Она дошла до стола. И назад.
Я уложила ее, пошла в огород.
Все-таки чувство собственности прилипчивое. Я ходила вдоль грядок, поднимала огуречные плети, ворошила заросли редиски и салата, поправляла палочки, поддерживающие помидоры, а внутри меня все словно бы пело: «Мое! Мое!» И огурчик мой, и клубника моя, и редиска моя — все мое. Я, наверное, их никогда бы не трогала — пусть растут, только ходила бы так по утрам и считала: ага, еще три огурчика прибавилось, ага, помидор закраснел. И с каждым днем увеличивалось бы мое богатство, росло бы, а я все считала бы и считала. Но каждое утро Варя кричала: «Хочу огурец!» Аня, вторя ей, чмокала губами и говорила, что нет ничего приятней, как съесть салат со сметаной, и я преодолевала свои частнособственнические инстинкты и кормила их и огурцами и салатом.
— Пожалуйста, дорогой, сюда, — говорила я огурцу и бросала его в подол, — и ты, помидор помидорыч, засиделся.
У соседей урчала свинья. По улице мальчик прогнал корову. Он нахлестывал ее хворостинкой, и она трусила, звеня колокольчиком. Мимо забора шли люди, кто на работу, кто в магазин.
— Утро доброе, Дмитриевна.
— Здравствуй, докторша.
— Здравствуйте, — отвечала я, улыбаясь, провожая их глазами.
Рыбаки шли, шурша спецовками, подпоясанные обрывками сетей. Они шли шумной толпой, широко расставляя ноги, с коричневыми от ветра и солнца лицами. Вдали в горах таял туман, там по крутой белой дороге бежали два грузовика.
Я, наверное, сентиментальна, потому что каждое утро словно бы жду этих мгновений, жду, когда выйду в огород, вдохну воздух, который принесет с гор ветер, и вот так постою немного, прислушиваясь, как рождается новый день. Я стою босиком на влажной от росы земле, она прохладна и мягка, она греется под неярким еще солнцем, и шуршит, и звенит тонкими, едва слышными голосами. Ноги мои еще сухи, еще теплы со сна, но вот роса обволакивает их, по ступням бежит озноб, и свежесть земли поднимается к икрам, к груди, рукам; я чувствую, как она ползет, будто сок по дереву, мне и зябко, и тепло, и странно.
— Ух, хорошо! — сказала я.
Загребая ножищами пыль, прошел с сумкой из магазина Андрей.
— Здрасте, Зинаида Дмитриевна, — сказал он хорошо поставленным голосом благовоспитанного киногероя.
И кепку на голове приподнял. Ой, господи, кепку приподнял, как пенсионер-интеллигент дореволюционной закваски. Как же, мы тоже не лыком шиты: не зря в институте учимся. Давно ли он бегал по поселку с голой попой? А ныне ученый муж. Вчера еще, кажется, таскал Варьку за волосы, а теперь с этой самой Варькой крутит шуры-муры, любовь да амуры.
— Ну-ка, подойди, профессор, — сказала я.
Он подошел, сказал еще раз:
— Здравствуйте.
— Будь здоров. Мать вернулась?
Вот тоже особа. Детей бросит и ходит со своими ухажерами. Неделю пропадает, две. Однажды месяц не являлась. И сейчас пропала, давно уже ни слуху ни духу. А он вместо няньки с детьми возится.
— Нет, не вернулась, — ответил он.
— И Варька не вернулась, — сказала я. — Куда она пропала, а?
— Я-то откуда знаю? — Он изобразил на лице недоумение. Но глаза отвел: не научился еще врать.
— Не притворяйся. Где Варя?
— Не знаю… В «Рассвет» вроде поехала, к бабке Иванихе. А разве она вам не сказала?
— Хорош кавалер. — Я усмехнулась. — Что ж ты ее не проводил?
— Откуда вы знаете, может, и проводил?
— Ну молодец. Проводил, значит?
— До самой избы довез.
— Утешил, спасибо. А то вчера бабка на базар приезжала, никакой, говорит, Варьки не видала. А ты успокоил.
Он смутился.
— Ну, не ври. Где она?
— Не знаю.
— Говори!
— Правда, не знаю.
Он посмотрел на меня честными глазами, но все равно я видела: знает.
— Иди, — сказала я. — Изолгались совсем. Иди, чего стоишь?
Не успеешь оглянуться, получишь эдакого конспиратора в зятья. Не скоро бы только.
Я повздыхала, глядя ему вслед, побежала мыть огурцы.
Аня, поставив на грудь свой пюпитр, писала: перо стонало под ее рукой. Она работает как одержимая. Все время работает. Я бы так не смогла.
— Что, почтальон был? — спросила она.
— Какой почтальон? Никакого почтальона не было.
— А с кем ты разговаривала?
— Ну его, — сказала я, — с женихом. Прекрасно знает, куда исчезла Варька, а прикидывается.
— Два месяца прошло, — сказала Аня.
Я не поняла:
— Какие два месяца?
Она укоряюще посмотрела на меня: обиделась. Все-таки я забываю иногда, что с ней надо ухо держать востро.
— Не глупи, — сказала я. — Я прекрасно помню. Не два месяца, а шестьдесят пять дней. Сегодня шестьдесят шестой. Я не меньше твоего жду ответа. Тоже считаю денечки. Может быть, тебя возьмут и вызовут в Москву, назначат президентом Сельскохозяйственной академии — освобожусь наконец из-под твоего гнета.
И этого, наверно, не надо было говорить: язык твой — враг твой. Она нахмурилась. Она не принимала шуток, когда дело касалось ее работы. Но правда же, я с не меньшим нетерпением и надеждой, чем она, ждала ответа из Москвы по поводу ее рукописи. Целый год она работала над нею вот тут, на этой кровати. Я ничего не понимаю в сельском хозяйстве, ровным счетом ничего, ее рукопись для меня темный лес, но в медицине-то я понимаю немножко и знаю, что для Ани уже нет других лекарств, кроме как признание ее работы. А не признать эту работу не могут — там вся Анина жизнь, весь ее опыт.


























