У памяти свои законы
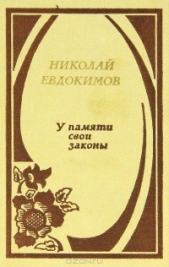
У памяти свои законы читать книгу онлайн
Новый роман Николая Евдокимова — правдивое, острое произведение, повествующее об ответственности советских людей друг перед другом и перед обществом.
Написанный со свойственным Н. Евдокимову лиризмом, с тонким проникновением в психологию героев, роман ставит ряд важных морально-этических проблем.
Занимательность сюжета, жизненная достоверность, своеобразная композиция этого произведения несомненно увлекут читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В медпункте меня уже ждали больные, и среди них, как всегда, Степанида.
— Вы опять пришли, Голикова? Я вас не приму.
— Ну как же так, милая? — плаксиво сказала она, глядя на меня добрыми глазами. — Я ж очень больная, едва доплелась. Справочку напиши — и все.
Я знала, с ней лучше не вступать в разговоры, и молча прошла в стационар. Стационар у нас маленький, две комнатки на восемь коек, но мы ухитрялись так составлять кровати, что при нужде могли разместить десять-одиннадцать человек. Сейчас здесь лежало только двое.
— Гони ты эту спекулянтку, — сказала я санитарке Наде.
— Погонишь ее! — ответила Надя. — Дайте ей справку, не связывайтесь.
— Не дам.
С кровати на меня смотрел Базоркин и улыбался. Он всегда, едва я вхожу в стационар, начинает улыбаться. Мне нравилось, что он улыбается, но я и смущалась почему-то, каждый раз чувствуя, что краснею. Не ответить на его улыбку было невозможно, я тоже улыбалась ему, и, какое бы ни было у меня настроение, мне всегда становилось покойно и радостно.
Я улыбнулась Базоркину, вымыла руки, надела халат и подошла к нему.
— Ну как дела?
— У тебя шажки легкие, мягкие, — сказал он, по-прежнему улыбаясь.
Я сделала вид, что рассердилась.
— Что вы такое говорите, Иван Аверьяныч?
— Он в вас, доктор, влюбился на старости лет, — хихикнул с соседней кровати Храмцов, наш поселковый милиционер.
— Ты глуп, Храмцов, хоть и оперуполномоченный, — сказал Базоркин.
— Должность ты мою не тронь, — обиделся Храмцов, — должность государством назначена.
— Хватит вам, дети! — Я посмотрела шов Базоркина, послушала легкие Храмцова. — Курите?
— Не, ни одной.
Базоркин усмехнулся, показал мне глазами: под подушкой, мол, папиросы. Я вытащила их, скомкала.
— Четырнадцать копеек стоит, — тоскливо сказал Храмцов.
— А жизнь сколечко? — спросил Базоркин.
— Ты уж молчи, фискал!
Я засмеялась, пошла в приемную, но Базоркин остановил меня:
— Нагнись, Дмитриевна, шепну что.
Я нагнулась.
— Если жинка девчонку родит, — зашептал он, — можно, Зинкой назову в твою честь? Разрешаешь?
— Конечно, Иван Аверьяныч, спасибо.
Я покраснела, ушла в приемную.
— Ну кто первый? Заходите.
— Я, голубушка, — сказала Степанида, — с самого утречка жду, милая.
— Нет, Голикова, не могу. Не имею права выписать вам справку.
— Как же так, золотце? Не могу ж я работать. Ну глянь, глянь, ноги опухли, родная ты моя, ну пощупай, — говорила она и смотрела на меня маслеными добрыми глазами.
Уж эти добрые глаза злых людей, они мне хорошо знакомы. Я смотрела на Голикову, а на меня будто наплывало другое лицо с такими же масляными ласковыми глазами. Странно, почему я никогда не узнавала в Голиковой того кулачка из подмосковной деревни Вырино — они же как брат и сестра?
Мы голодали тогда с отцом: как-то, когда я возвращалась из института, в трамвае у меня украли продовольственные карточки. Была зима сорок четвертого года. По ночам отец писал свою книгу о какой-то спиральной галактике М82. Он любил ходить по комнате и будил меня скрипом своего протеза. Я не знаю, как он держался, — он почти не спал, рано утром, голодный, выпив стакан кипятку, он уходил читать лекции или принимать экзамены. На столе его рядом с рукописью стояла мамина фотокарточка и лежал орден боевого Красного Знамени, которым он был награжден еще в гражданскую войну. Орден он редко носил, но всегда держал перед собой на столе. Я листала рукопись. Она была таинственна, испещрена сотнями длиннейших цифр и так далека от того, что происходило в мире.
Есть было нечего. Я бы выменяла что-нибудь на картошку, но дома у нас никогда не было ничего стоящего из вещей — одни книги. То же, что представляло хоть какую-то ценность, я давно уже поменяла, в самом начале войны. Я завернула в газету свои относительно еще новые туфли и отправилась на Тишинский рынок. Это были мои единственные выходные туфли, но никто больше двух кило картошки почему-то за них не давал. Мне же не хотелось так дешево расставаться с ними.
— Что у тебя там? — спросил мужичок в тулупе, в рыжей меховой шапке.
Я развернула сверток.
— Ну и сколь дают?
— Два кило.
— Охламоны. Четыре дам. Но, вишь, кончил торговать. Через неделю приходи. Или вот что. Далеко живешь? Идем, посмотрю, какие еще у тебя вещички, столкуемся.
Я повела его домой. Я показала ему свои платья. Одно он отобрал. Отобрал старый папин пиджак. Потом походил вдоль книжных полок.
— Есть книга «Робинзон Крузо»?
— Есть, — радостно сказала я.
— Кило картошки за нее дам. Пойдет?
— Пойдет.
— А это чтой-то у тебя? — спросил он, разглядывая у меня на руке часы. — Красивые. Не наши?
— Немецкие, — сказала я.
— Во, сволочи: фашисты, а умеют… Меняешь?
— Нет, нет, — сказала я, спрятав за спину руки. Эти часы незадолго до войны привез мне из Германии отец, он ездил в научную командировку.
— А то давай, а? Мешок отвалю.
— Нет, — решительно сказала я, — это подарок, нельзя.
Он ушел, оставив мне свой деревенский адрес.
— Надумаешь часики менять, приезжай.
Я думала несколько дней и все же надумала. Собрала вещи, которые он отобрал, и поехала. В деревню Вырино я пришла к вечеру, окоченела, пока добралась от станции: был мороз — и когда увидела своего мужичка, обрадовалась ему, как родному. Жил он в большом доме один, или в тот вечер был почему-то один, не знаю. Он напоил меня чаем с медом, накормил яичницей. Полную сковородку навалил яиц — я ела, а сама об отце думала: ему бы хоть половину. Когда он ел яичницу? Сто лет назад, а он любил яичницу.
Я наелась, согрелась, обмякла. Хозяин дома сидел рядом, гладил меня по голове и говорил:
— Ишь умаялась, красатулька. Еще кушай, все твое…
Голос у него был ласковый, глаза добрые. Мне было приятно, что он гладит меня по голове, а странное это слово «красатулька» хотя и смешило меня, но тоже было приятно. Я уже не жалела часы, за которые получу целый мешок картошки. Папа придет из института, поведет носом, спросит: «Чем это так вкусно пахнет?» — «Жареной картошкой», — отвечу я и вынесу из кухни целую сковородку шипящей румяной картошки.
Я сидела, клевала носом.
— Спать надо, спать, крохотулечка-красатулечка, — сказал мой благодетель.
Я засмеялась:
— Как у вас это ласково: «крохотулечка-красатулечка».
Наконец я разделась, легла, начала задремывать. И вдруг почувствовала, что он лезет ко мне. Я закричала, скатилась на пол. В одной рубашке я бегала в темноте по комнате и всюду натыкалась на него.
— Озолочу, озолочу, — шипел он гнусным голосом.
Я вырвалась в сени, выбежала, в чем была, на улицу, закричала. Не знаю, услышал меня кто или нет. Он выскочил, впихнул в избу:
— Убирайся, чертовка, разоралась, дура!
Я оделась, взяла свой мешок и ушла. Глубокой ночью пришла на станцию, на рассвете села в поезд и утром — часы мои показывали семь пятнадцать — сошла на Казанском вокзале. Когда я подходила к дому, на часах по-прежнему было семь пятнадцать. Я попробовала завести их, но они не заводились: испортились. В ту ночь они остановились на многие годы.
Я поднялась по лестнице. Всунула ключ в замочную скважину и вдруг увидела, что наша дверь опечатана. В эту ночь был арестован отец.
Я вспомнила все это, глядя в добрые масленые глаза Голиковой, и разозлилась, будто она была виновата во всем, что произошло в ту ночь. А может, и виновата — одна из прародительниц зла?
— Прекрасно вы можете работать, — сказала я. — В город с мешками таскаться можете? И работать можете.
— Ишь ты, шустрая, — спокойно сказала она. — Грубиянка необразованная, вот кто ты есть. Граждане-товарищи, да за что же это она меня позорит? Сама просила девчонке своей ботиночки замшевые привезти, а теперь в глаза тычет.
Это была неправда — никогда ничего я у нее не покупала.
— Уймись, Степанида! — крикнул кто-то.


























