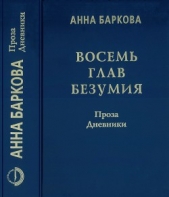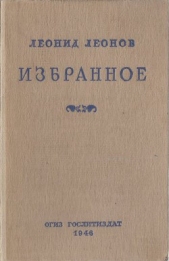В душе моей какая-то сумятица,
И сердцу неуютно моему.
Я старенькая, в бедном сером платьице,
Не нужная на свете никому.
Я старенькая, с глазками веселыми,
Но взгляд-то мой невесел иногда.
Вразвалочку пойду большими селами,
Зайду я в небольшие города.
И скажут про меня, что я монашенка,
Кто гривенник мне бросит, кто ругнет.
И стану прохожих я расспрашивать
У каждых дверей и ворот:
— Откройте, не таите, православные,
Находка не попалась ли кому.
В дороге хорошее и главное
Я где-то потеряла — не пойму.
Кругом, пригорюнившись, захнычет
Бабья глупая сочувственная рать:
— Такой у грабителей обычай,
Старушек смиренных обирать.
А что потеряла ты, убогая?
А может, отрезали карман?
— Я шла не одна своей дорогою,
Мне спутничек Господом был дан.
Какой он был, родимые, не помню я,
Да трудно мне об этом рассказать.
А вряд ли видели вы огромнее,
Красивей, завлекательней глаза.
А взгляд был то светленький, то каренький,
И взгляд тот мне душу веселил.
А без этого взгляда мне, старенькой,
Свет Божий окончательно не мил.
— О чем она, родимые, толкует-то? —
Зашепчутся бабы, заморгав, —
Это бес про любовь про какую-то
Колдует, в старушонке заиграв.
И взвоет бабье с остервенением:
— Гони ее, старую каргу!
И все на меня пойдут с камением,
На плечи мне обрушат кочергу.
Что в крови прижилось, то не минется,
Я и в нежности очень груба.
Воспитала меня в провинции
В три окошечка мутных изба.
Городская изба, не сельская,
В ней не пахло медовой травой,
Пахло водкой, заботой житейскою,
Жизнью злобной, еле живой.
Только в книгах раскрылось мне странное —
Сквозь российскую серую пыль,
Сквозь уныние окаянное
Мне чужая привиделась быль.
Золотая, преступная, гордая
Даже в пытке, в огне костра.
А у нас обрубали бороды
По приказу царя Петра.
А у нас на конюшне секли,
До сих пор по-иному секут,
До сих пор мы горим в нашем пекле
И клянем подневольный труд.
Я как все, не хуже, не лучше,
Только ум острей и сильней,
Я живу, покоряясь случаю,
Под насилием наших дней.
Оттого я грубо неловкая,
Как неловок закованный раб.
Человеческой нет сноровки
У моих неуклюжих лап.
Сегодня чужое веселье,
Как крест, на душе я несу.
Бежать бы и спрятаться в келью
В каком-нибудь диком лесу.
Охрипли чахоточно струны
Надорванной скрипки больной…
Здесь нет несозревших и юных,
Все старятся вместе со мной.
Здесь старят, наверно, не годы,
А ветер, пурга, облака.
И тусклое слово «невзгода»,
И мутное слово «тоска».
Здесь старят весна и морозы,
И жизни безжизненный строй,
И чьи-то тупые угрозы,
Приказы: «Иди!» или «Стой!»
Охрипли чахоточно струны
Надорванной скрипки больной.
Здесь тот, кто считается юным,
Бессильно дряхлеет со мной.
Прошло семь месяцев в разлуке.
Сегодня первое число.
Мы с горя не ломаем руки,
Хоть нам и очень тяжело.
Есть мука, полная актерства:
Рыдать, метаться и кричать.
Мы с героическим притворством
Должны несчастия встречать.
Когда от боли непрерывной
Мы еле сдерживаем крик,
Когда надежд слепых наивность
Нас покидает в горький миг,
Мы все таим и помним свято:
Спасет молчание одно
Все то, чем жили мы когда-то,
Чем жить нам дальше суждено.
Прошедшее мое, оставь,
Меня не беспокой.
Хотела я пуститься вплавь,
А поплелась с клюкой.
Хотела я счастливым стать
Иваном-дураком
И где-то царство отыскать
На берегу морском,
И в нем царить, надев кафтан
Из золотой парчи,
И привозить из чуждых стран
Науки и мечи,
Астрологов и лекарей,
Безбожных плясунов,
Диковинных смешных зверей —
Мартышек и слонов.
И с подданными царь Иван
Сидел бы на печи,
И лил бы мед на свой кафтан
Из золотой парчи.
Заснул бы с пряником в руке
Он крепким сладким сном.
Царевна-лебедь по реке
Плыла бы за окном.
Царевну получил бы он
Без всяческих хлопот.
Ведь тем, кто спать умеет, сон
Удачу подает.
По счастью счастлив царь Иван,
Совсем не по уму.
Разумных много в мире стран,
Нам разум ни к чему.
Ах, спал бы славный царь Иван
И все за ним подряд —
Под зависть очень многих стран,
Которые не спят.