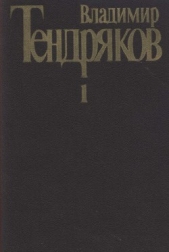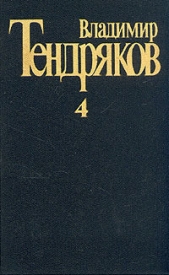Собрание сочинений. Том 4. Повести

Собрание сочинений. Том 4. Повести читать книгу онлайн
В настоящий том вошли произведения, написанные В. Тендряковым в 1968–1974 годах. Среди них известные повести «Кончина», «Ночь после выпуска», «Три мешка сорной пшеницы», «Апостольская командировка», «Весенние перевертыши».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вера не испугалась, а надулась, словно не она его — он обидел ее:
— Не нравится? Извини. Сам же хотел, чтоб до дна, чтоб все откровенно…
И замолчала.
Игорь серьезен, Сократ оживленно ерзает, Натка холодно-спокойна, откинулась на спинку скамьи рядом с надутой Верой — лицо в тени, маячат строгие брови.
— Ложь! — выкрикнул Генка. — До последнего слова ложь! Особенно о велосипеде!
И замолчал, так как на лицах ничего не отразилось — по-прежнему замкнуто-серьезен Игорь, беспокоен Сократ, спокойна Натка и надута Вера. Будто и не слышали его слов. Как докажешь, что хотел спасти Славку, жалел его? Даже велосипед не доказательство! Молчат. И как раздетый перед всеми.
— Кончим эту канитель, ребята, — вяло произнес Игорь. — Переругаемся.
Кончить? Разойтись? После того, как оболгали! Натка верит, Игорь верит, а сама Верка надута. И настороженно, выжидающе блестят с бледного лица глаза Юлечки Студёнцевой… Кончить на этом, согласиться с ложью, остаться оплеванным! И кем? Верой Жерих!
— Нет! — выдавил Генка сквозь стиснутые зубы. — Уж нет… Не кончим!
Игорь кашлянул недовольно, проговорил в сторону:
— Тогда уговоримся — не лезть в бутылку. Пусть каждый говорит что думает — его право, терпи.
— Я больше не скажу ни слова! — обиженно заявила Вера.
Генку передернуло: наговорила пакости — и больше ни слова. Но никто этим и не думает возмущаться — Игорь сумрачно-серьезен, Натка спокойна. И терпи, не лезь в бутылку…
Генка до сих пор жил победно — никому не уступал, не знал поражений, себя даже и защищать не приходилось, защищал других. И вот перед Верой Жерих, которая и за себя-то постоять не могла, всегда прибивалась к кому-то, он, Генка, беспомощен. И все глядят на него с любопытством, но без сочувствия. Словно раздетый — неловко, хоть провались!
— Можно мне? — Юлечка по школьной привычке подняла руку.
Генка повернулся к ней с надеждой и страхом — так нужна ему сейчас поддержка!
— Не навестил больную, не пригласил ночевать бездомного Сократа, старый велосипед… Какая все это мелочная чушь!
Серьезное, бледное лицо, панически блестящие глаза на нем. Так нужно слово помощи! Он, Генка, скажет о Юлечке только хорошее — ее тоже в классе считали черствой, никто ее не понимал — зубрилка, моль книжная. Каково ей было терпеть это! Генка даже ужаснулся про себя — он всего минуту сейчас терпит несправедливость, Юлечка терпела чуть ли не все десять лет!
— Я верю, верю — ты, Гена, не откажешь в ночлеге и велосипед ради товарища не пожале-ешь… — Блестящие глаза в упор. — Даже рубаху последнюю отдашь. Верю! А когда бьют кого-то, разве ты не бросаешься спасать? Ты можешь даже жизнью жертвовать. Но… Но ради чего? Только ради одного, Гена: жизни не пожалеешь, чтоб красивым стать. Да! А вот прокаженного, к приме-ру, ты бы не только не стал лечить, как Альберт Швейцер, но через дорогу не перевел бы — побрезговал. И просто несчастного ты не поддержишь, потому что возня с ним и никто этому аплодировать не будет. От черствости это?.. Нет! Тут серьезнее. Рубаха, велосипед, жизнь на кон — не для кого-то, а для самого себя. Себя чувствуешь смелым, себя — благородным! Ты так себе нравиться любишь, что о других забываешь. Не черствость тут, а похуже — себялюбие! Черствого каждый разглядит, а себялюбца нет, потому что он только о том и старается, чтоб хорошим выглядеть. А как раз в тяжелую минуту себялюбец-то и подведет. Щедрость его не настоящая, благородство наигранное, красота фальшивая, вроде румян и пудры… Ты светлячок, Гена, красиво горишь, а греть не греешь.
Юлечка опустила веки, потушив глаза, замолчала. И лицо ее сразу усталое, безразличное.
— Это ты за то… отказался в Москву с тобой?.. — с трудом выдавил Генка.
— Думай так. Мне уже все равно.
Генка затравленно повел подбородком. Перед ним сидели друзья. Других более близких друзей у него не было. И они, близкие, с детства знакомые, оказывается, думают о нем вовсе не хорошо, словно он враг.
Он взял себя в руки, придушенно спросил:
— Ты это раньше… что я светлячок? Или только сейчас в голову пришло?
— Давно поняла.
— Так как же ты… в Москву?..
— За светлячком можно в чащу лезть сломя голову, за себялюбцем в Сибирь ехать, не только в Москву. Тут уж с собой ничего не поделаешь, — не подымая глаз, тихо ответила Юлечка.
Ночь напирала на обрыв. От нее веяло речной сыростью. Перед всеми как раздетый… Светлячок, надо же!
Чтоб только не растягивать мучительную тишину, Генка хрипло попросил:
— Игорь, давай ты.
— Может, кончим все-таки. Врагами же расстанемся.
— Спасаешь, благодетель?
— Что-то мне неохота ковыряться в тебе, старик.
— Режь, не увиливай.
— Н-да-а.
Игорь Проухов… С ним Генка сидел на одной парте, его защищал в ребячьих потасовках. Как часто они лежали на рыбалках у ночных костров, говорили друг другу самое сокровенное. Много спорили, часто не соглашались, бывало, сердились, ругались даже, но никогда дело не доходило до вражды. Игорь не Юлечка Студёнцева. Вот если б Игорь понял, как трудно ему, Генке, сейчас: дураком выглядит, без вины оболган, заклеймен даже — светлячок, надо же… Если б Игорь понял и сказал доброе слово, отбрил Веру, возразил Юльке — а Игорь может, ему нетрудно, — то все сразу бы встало на свои места.
Попросить при всех о помощи, сознаваться, что слаб, Генка не мог, а потому произнес почти с угрозой:
— Режь! Только учти, я тебя тоже жалеть не стану.
Эх, если б Игорь понял, не поверил угрозе, мир остался бы прежним, где дружба свята, правда торжествует, а ложь наказывается…
Но Игорь поскреб небритый подбородок, не глядя Генке в глаза, угрюмо сказал:
— Не пожалеешь?.. Само собой. Что ж…
За Зоей Владимировной закрылась дверь. С минуту никто не шевелился.
Скрипнул стул под Иваном Игнатьевичем, директор решительно поднялся, грудью повернулся к Ольге Олеговне, насупленно-строгий и замкнутый:
— Не кажется ли вам, что вы сейчас обидели человека? Сильно обидели и незаслуженно!
У Ольги Олеговны немигающие, широко открытые глаза, но неподвижное лицо все равно кажется каким-то слепым. Тяжелая копна вознесенных волос и расправленные плечи.
— Мне очень жаль, что так получилось. — Голос сухой, без выражения.
— Не сочтите за труд извиниться перед ней.
Иван Игнатьевич редко сердился, но когда сердился, всегда становился церемонно-вежливым: «Не сочтите за труд… Смею надеяться… Позвольте рассчитывать…»
— Извиниться? За что?
Неподвижное лицо Ольги Олеговны ожило, взгляд вновь стал подозрительно-настороженным.
— Вы только что, любезная Ольга Олеговна, сказали, позвольте напомнить: «Мне очень жаль, что так получилось». Надеюсь, сожаление искреннее. Так сделайте же следующий шаг — извинитесь!
— Мне жаль… Наверное, как и каждому из нас. Жаль, что у Зои Владимировны долгая жизнь оканчивается разбитым корытом.
— Разрешу себе заметить: разбитое корыто — довольно рискованное выражение.
— А разве она сейчас сама не призналась в этом?
— Не станете же нас уверять, уважаемая Ольга Олеговна, что долгая жизнь Зои Владимировны не принесла никакой пользы?
— Пользы?.. Сорок лет она преподает: Гоголь родился в таком-то году, Евгений Онегин — представитель лишних людей, Катерина из «Грозы» — луч света в темном царстве. Сорок лет одни и то же готовые формулы. Вся литература — набор сухих формул, которые нельзя ни любить, ни ненавидеть. Не волнующая литература — вдумайтесь! Это такая же бессмыслица, как, скажем, не греющая печь, не светящий фонарь. Получается: сорок лет Зоя Владимировна обессмысливала литературу. Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов глаголом жгли сердца людей. По всему миру люди горят их пламенем — любят, ненавидят, страдают, восторгаются. И вот зажигающие глаголы попали в добросовестные, но, право же, холодные руки Зои Владимировны… Сорок лет! У скольких тысяч учеников за это время она отняла драгоценный огонь! Украла способность волноваться! Вы в этом видите пользу, Иван Игнатьевич?!


![Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/uploads/posts/books/49841/49841.jpg)