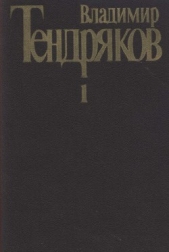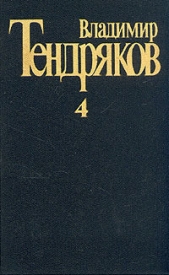Собрание сочинений. Том 4. Повести

Собрание сочинений. Том 4. Повести читать книгу онлайн
В настоящий том вошли произведения, написанные В. Тендряковым в 1968–1974 годах. Среди них известные повести «Кончина», «Ночь после выпуска», «Три мешка сорной пшеницы», «Апостольская командировка», «Весенние перевертыши».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вы, наверно, помните Сенечку Лукина. Как не помнить — намозолил всем глаза, в каждом классе по два года отсиживал и всегда норовил на третий остаться. Только о нем и говорили, познаменитей Судёнцевой была фигура. Как я тащила этого Сенечку! За уши, за уши к книгам, к тетрадям, по два часа после уроков каждый день с ним. Подсчитать бы, какой кусок жизни Сенечка у меня вырвал. И сердилась на него и жалела… Да, да, жалела: как, думаю, такой бестолковый жизнь проживет? Двух слов не свяжет, трех слов без ошибки, не напишет, страницу прочитает — п о том обольётся от натуги. Не закон бы о всеобщем обучении, выпихнули бы Сенечку из школы на улицу, а так с натугой большой вытянули до восьмого класса. И вот недавно встретила его… Узнал, как не узнать, улыбается от уха до уха, золотой зуб показывает, разговор завел: «Чтой-то у вас, Зоя Владимировна, пальтецо немодно, извиняюсь, сколько в месяц заколачиваете?.. Я ныне на тракторе, выходит, вдвое больше вас огребаю — мотоцикл имею, хочу дом построить…» Он же радовался, радовался, что не такой, как я! И правда, мне завидовать нечего. По шестнадцать часов в сутки работала год за годом, десятилетие за десятилетием, а что получила?.. Болезни да усталость. Ох как я устала! Нет достатка, нет покоя. И уважения тоже… Почтенная учительница, окруженная на старости лет любовью учеников только в кино бывает. Но, думалось, есть одно, чего отнять нельзя никакой силой, никому! — вера, что не зря жизнь прожила, пользу людям принесла, и немалую! Как-никак тысячи учеников прошли через мои руки, разума набрались. Считают, для человека самое страшное быть убитым. Но убийцы-то могут отнять только те дни, которые еще предстоит прожить, а прожитых дней и лет никак не отнимут, бессильны. Но вы, Ольга Олеговна, все прошлое у меня убить собираетесь, на всем крест ставите!
Ольга Олеговна не шевелилась — сплюснутые губы, немигающие, упрятанные в тень глаза.
— А если вас вот так, как вы меня, вместе со всем прошлым! придушенно воскликнула Зоя Владимировна. — Поглядите на меня, поглядите внимательней! Вот перед вами стоит ваша судьба — морщинистая, усталая, педагогическая сивка, которую укатали крутые горки на долгой дороге. На меня похожи будете. Глядите — не ваш ли это портрет?
Зоя Владимировна судорожно стала искать в рукаве носовой платок, нашла, приложила к покрасневшим глазам.
— Последнее скажу: любила свою школу и люблю! Да! Ту, какая есть! Не представляю иной! Рассадник грамотности, рассадник знаний. И этой любви и гордости за школу никто, никто не отнимет! Нет!
Она еще раз приложила к глазам скомканный платочек, испустила прерывистый вздох, спрятала платок в узкий рукав.
— Будьте здоровы.
И двинулась к выходу, волоча ноги, узкая костистая спина перекошена.
И никто не посмел ее остановить, молча провожали глазами… Только Нина Семеновна, сидевшая у дверей, приподнялась со стула со смятенным и растерянным лицом, вытянувшись, пропустила старую учительницу.
На скамье — тесно в ряд все пятеро: Сократ с гитарой, Игорь, склонившийся вперед, опираясь локтями на колени, Вера с Наткой в обнимку, Юлечка в неловкой посадке на краешке скамьи.
И Генка перед ними — с улыбочкой, отставив ногу в сторону.
Если б он сел вместе со всеми, находился в общей куче — быть может, все получилось бы совсем иначе. Он сам поставил себя против всех — им осуждать, ему оправдываться. А потому каждое слово звучало значительней, серьезней, а значит, ранимей. Но это открылось позднее, сейчас Генка стоял с улыбочкой, ждал. Новая игра не казалась ему рискованной.
Все поглядывали на Игоря, он умел говорить прямо, грубо, но так, что не обижались, он самый близкий друг Генки, кому, как не ему, первое слово. Но на этот раз Игорь проворчал:
— Я пас. Сперва послушаю.
И Сократ глупо ухмылялся, и Натка бесстрастно молчала, и Юлечка замороженно глядела в сторону.
— Я скажу, — вдруг вызвалась Вера Жерих.
Странно, однако, — Вера не из тех, кто прокладывает другим дорогу: всегда за чьей-то спиной, кого-то повторяет, кому-то поддакивает. Она решилась! — уселись поплотнее, приготовились слушать. Генка стоял, отставив ногу, и терпеливо улыбался.
— Геночка, — заговорила Вера, напустив серьезность на широкое щекастое лицо, — знаешь ли, что ты счастливчик?
— Ладно уж, не подмазывай патокой.
— Ой, Геночка, обожди… Начать с того, что ты счастливо родился папа у тебя директор комбината, можно сказать, хозяин города. Ты когда-нибудь нуждался в чем, Геночка? Тебя мать ругала за порванное пальто, за стоптанные ботинки? Нужен тебе новый костюм — пожалуйста, велосипед старый не нравится — покупают другой. Счастливчик от роду.
— Так что же, за это я должен покаяться?
— И красив ты, и здоров, и умен, и характер хороший, потому что никому не завидуешь. Но… Не знаю уж, говорить ли все? Вдруг да обидишься.
— Говори. Стерплю.
— Так вот ты, Гена, черствый, как все счастливые люди.
— Да ну?
Генка почувствовал неловкость — пока легкую, недоуменную: ждал признаний, ждал похвал, готов был даже осадить, если кто перестарается — не подмазывай патокой, — а хвалить-то и не собираются. И нога в сторону и улыбочка на лице, право, не к месту. Но согнать эту неуместную улыбочку, оказывается, невозможно.
— Гони примерчики! — приказал он.
— Например, я вывихнула зимой ногу, лежала дома — ты пришел меня навестить? Нет.
— Вера, ты же у нас одна такая… любвеобильная. Не всем же на тебя походить.
— Ладно, на меня походить необязательно. Да разобраться — зачем я тебе? Всего-навсего в одном классе воздухом дышали, иногда вот так в компании сидели, умри я — слезу не выронишь. Меня тебе жалеть не стоит, а походить на меня неинтересно — ты и умней и самостоятельней. Но ты и на Игоря Проухова, скажем, не похож. Помнишь, Сократа мать выгнала на улицу?
— Уточним, старушка, — перебил Сократ. — Не выгнала, а сам ушел, отстаивая свои принципы.
— У кого ты ночевал тогда, Сократ?
— У Игоря. Он с меня создавал свой шедевр — портрет хиппи.
— А почему не у Гены? У него своя комната, диван свободный.
— Для меня там не совсем комфортабль.
— То-то, Сократик, не комфортабль. Трудно даже представить тебя Генкиным гостем. Тебя — нечесаного, немытого.
— Н-но! Прошу без выпадов!
— Ты же несчастненький, а там дом счастливых.
— Да что ты меня счастьем тычешь? Чем я тут виноват?
Генка продолжал улыбаться, но управлять улыбкой уже не мог — въелась в лицо, кривенькая, неискренняя, хоть провались. И все это видят — стоит напоказ. Он улыбался, а подымалась злость… На Веру. С чего она вдруг? Всегда услужить готова — и… завелась. Что с ней?
— Да, Геночка, да! Ты вроде и не виноват, что черствый. Но если вор от несчастной жизни ворует, его за это оправдывают? А?
— Ну, старушка забавница, ты сегодня даешь! — искренне удивился Сократ.
— Черствый потому, что полгода назад не навестил тебя, над твоей вывихнутой ногой не поплакал! Или потому, что Сократ не ко мне, а к Игорю ночевать сунулся! Ну, знаешь…
— А вспомни, Геночка, когда Славка Панюхин потерял деньги для похода…
— А не помнишь, кто выручил Славку? Может, ты?!
— Аг-га-а! Знала, что этот проданный велосипед нам напомнишь! Как же, велосипед загнал, не пожалел для товарища… Но ты сам вспомни-ка, как сначала-то ты к этому отнёсся? Ты же выругал бедного Славку на чем свет стоит. А вот мы ни слова ему не сказали, мы все по рублику собирать стали, и только тогда уж до тебя дошло. Позже всех… Нет, я не говорю, Гена, что ты жадный, просто кожа у тебя немного толстовата. Тебе ничего не стоило сделать благородный жест — на, Славка, ничего не жаль, вот какая у меня широкая натура. Но только ты не последнее отдавал, Геночка. Тебе старый велосипед уже надоел, нужен был новый — гоночный…
И ударила кровь в голову, и въедливая улыбочка наконец-то слетела с лица. Генка шагнул на Веру:
— Ты!.. Очухайся! Эт-то свинство!


![Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/uploads/posts/books/49841/49841.jpg)