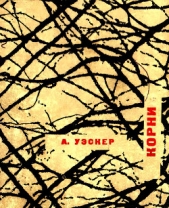Колесом дорога

Колесом дорога читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вырвавшись из городка, рабочий поездок сразу же попадал в густой, до слез разъедающий глаза дым, щелястые окна и тамбуры вагонов не могли его сдержать. Горел лес. Горели нехотя и чадяще молодые сосны — подрост, ольха, березы, елки. Пропитанные болотом, они не желали поддаваться огню, они продолжали расти, пить болотную воду. Тракторами и бульдозерами их выгребли на полосу отчуждения, стянули в огромные валы, и они лежали в этих валах, сплетясь друг с другом обрубками ветвей, взняв в небо белые жилы корней, чуть припорошенные сверху землей. Потому так и едок был дым, пламя не могло вырваться наружу, земля, торф сверху не давали ему разгуляться. Дым стлался понизу, как пожарище уже полузалитого водой дома. Сваленные в кучу деревья, глубокие траншеи — канавы с брустверами свежевынутого белого и ржаво-красного песка. И ни души кругом. Только поездок, спешащий скорее прочь, на чистый воздух.
Неподалеку от городка стояли друг напротив друга на расстоянии трех километров два села. Лежало между ними полусухое болотце с редким кустарником, бежала посреди этого болотца небольшая речушка с прозрачной ключевой водой, чистым дном. В речушке водилась даже быстрая стронга — форель. Рай земной для пацанвы. Наступал этот рай, как только оттаивала по весне земля, когда шел в рост вяжущий губы молодой и сочный аир. Особенно прекрасным было время, когда приходила пора цветения аира, когда он еще не выбросил цвета, а только готовился, таил в себе меж стеблей у корня хрусткую и сладкую завязь его. Вот за этой завязью и шли к речушке, к болотцу ребята. И однажды, добывая ее, добыли парашют. Начали копать и откопали самолет. Наш, советский самолет. Он был сбит над этим болотцем в последние месяцы оккупации, болотце поглотило его, пацанва открыла. Был митинг. На митинге зачитали неотправленное письмо летчика к матери. Письмо сохранилось, пролежав годы в целлулоиде планшетки летчика.
На месте гибели его поставили обелиск, а потом началось осушение болота, речушку спрямили, выкорчевали кустарник, села, стоящие друг против друга, перестали просматриваться из-за отвалов белого песка, из-за валов кустарника и пней. Эти валы так и не успели убрать. Они закурились вначале тоненькой струйкой дыма, и струйка эта то появлялась, то пропадала, будто кто-то дышал там, в глуби, и с каждым часом все торопливее, пока не заволокло синим туманом обе деревни. Тут только всполошились мужики, коровам стало нечем дышать. Бросились тушить, но уже было поздно, огонь пробрался глубоко в землю и пошел точить ее норами и ходами. И стало опасно ходить по болоту, куда опаснее, чем по трясине. Из трясины еще можно было вырваться, а схватившаяся огнем земля ничего не отдавала. На глазах у Матвея в это жуткое царство подземного огня провалилась корова. И так велик и пылающ был ужас ее не успевших омыться, наполниться слезами глаз, так жгло и подпекало ее снизу, что корова даже не взмыкнула, рев ее застрял, испепелился в разодранном мукою и болью горле. А торфяники горели еще месяц. Месяц не продохнуть было в двух деревнях и в городке тоже. Ушел под землю и обелиск.
Матвей вспомнил об этом к концу своей поездки по Полесью, после долгих ночных разговоров у костерка о том, что ему делать с этой землей и какой она будет после его трудов.
— Полесье — треть республики — захвачено болотами,— убеждал Шахрай.— И какая земля гуляет — торфяки. А мы крутимся на дедовских еще деляночках. По уши еще в болоте, в воде...
— И не желает полешук из этой воды вылезать,— подтверждал Матвей.— Взять моих, из моего колхоза людей. Заливает через год, а то и каждый год. За деревней бугор, паводок туда не доходит, селитесь, говорю. Соглашаются: тут, на бугре, хаты надо ставить, правильно, председатель. Схлынула вода — никто с места не трогается: ты что, председатель, что ты нас на лысую гору гонишь. Тут, гляди, под хатою и прудок, водица, утки, гуси и земля какая. Сонейко пригрело, обсохли мы и живем, а там...
— Инерция, Матвей, с нею, а не с мужиком и надо бороться. Надо только показать мужику, что может дать болото, что можно взять у него. Не верю ни в сказки, ни в чудеса, а тут чудо возможно, ведь многие полесские колхозы сегодня — это, по сути, единоличные хозяйства, укрупненные только, и работают они лишь на себя. А Полесье может и должно дать того же мяса столько, сколько дает его сегодня вся республика. Вот так. Поле только надо построить,^ перестроить землю. Смотри, слушай...
И Матвей смотрел на Шахрая и слушал его. Нарисованная картина была прекрасна. Тихая река, главная река Полесья, превращалась в могучую водную артерию, связывающую пять настоящих морей. А там, где были болота, чахлые кустарники, волновалось море пшеницы. На месте маломощных колхозов вырастали почти индустриальные хозяйства, животноводческие комплексы.
Но Матвей Ровда был все же полешуком, и притом из глубицки — до железной дороги стежками-прямушками и то пятнадцать километров,— и картине, нарисованной Шахраем, он радовался ровно день. А потом начал думать. К раздумью склоняло само Полесье, по которому они все еще колесили. На Полесье в эту пору все тоже думали. Неустанно думали и наговаривали что-то свое реки, текущие между трав и под землей, под обманным берегом, сплетенным, сотканным из тех же трав. И этот берег-ковер все время прогибался под ногами, грозясь порваться и поглотить ступающего на него человека. Думали и леса, но в ветер тревожно и предостерегающе шумя ветвями. Думали антоны- буслы в белых свитках-одеждах, вышедшие в луга, зачарованные сами своими одеждами и одеждами земли, в которую та убралась, обещая сытные осень и зиму; для этого и трудились реки и дубравы, небо, птицы и муравьи даже, И Матвей тоже трудился, он понимал, что хозяйствовать на этой земле, как хозяйствовал раньше, как хозяйствовали другие полешуки, нельзя, тесно уже. Он с каждым годом все сильнее ощущал, как его прижимают болота. Не хватало земли, не хватало простора ему и его технике. Но, оглядываясь на эти болота, он все время видел тот дым, синим едким туманом встающий над пограничным городком, видел, дышал им. Не могла подняться рука у него на это болото, потому что подозревала даже некую разумность за ним, допускала, что есть у него и память. Ведь на этих бодотах, на которых жили буслы, рос аир, жил, рос и он сам, Матвей Ровда, поколения князьборцев, полешуков росли и жили. Ведь он сам вышел из буслов-антонов, аира и потому состоялся, что было все это у него и вокруг него: буслы, ольха, аир, болото. Обо всем этом Матвей и рассказал Шахраю, когда они, переночевав у речки, утречком снова готовились в дорогу. Шахрай, как всегда, завершал утренний ритуал бритья, склонясь над обломком зеркала, укрепленного на ольхе. Ему оставалось лишь пару раз провести безопаской по правой щеке, где и располагалась та злополучная родинка. Шахрай ткнул в нее пальцем, будто хотел удостовериться, на месте или нет, решительно и зло провел бритвой по щеке, смахнул пену, и тут же поплыла к подбородку черная полоска крови.
— Опять... Так и знал. Добреюсь до рака,— досадливо произнес Шахрай и тут же не выдержал, сорвался на крик: — Под суд, под суд за такие дела!
— Кого под суд? — оторопел Матвей.— За какие дела?
— За такие... Сколько гектаров торфяников сгорело? — Он безуспешно пытался остановить кровь одеколоном и йодом.
— Да тысячи полторы...
Шахрай почти застонал:
— А мой дед со своим кумом тридцать лет, до революции, судился из-за десятины. Да это же наш совхоз, что мы ищем, сожгли, дымом пустили. Узнаю, узнаю. Кто под суд пошел? — кровь все еще текла у него из родинки.
— Да никто вроде. Стихийное ведь бедствие...
Про стихийное бедствие Матвей ввернул, чтобы прощупать Шахрая, сам он не считал это стихийным бедствием, судя по реакции, не считал так и Шахрай:
— Узнаю, узнаю... Стихийное бедствие. Нет ничего невероятного в наши дни. Любая сказка становится былью и любая сказка — пылью... Золотое дно, поверь мне, Матвей, у наших полесских торфяников. Жилинский не зря ведь в какие годы и с какой техникой — с лопаткой пошел открывать это дно. Двадцать пять тысяч километров каналов лопаткою...— И вдруг, будто прозрев: — А ты сомневаешься в этом золотом дне? — Кровь ему так и не удалось остановить.