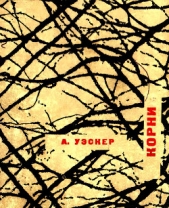Колесом дорога

Колесом дорога читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Выбор
Промелькнула деревенька в одну скучную, хотя и недлинную улицу, опустошенную покоем и тишиной, затянутую дремой и вековыми слежавшимися песками. Из песков этих, белыми шапками лежащих вдоль дороги, на самой дороге и у неогороженных изб — сразу дверями на улицу — лениво поднялся пегий худой пес, с голодной тоской в глазах посмотрел на машину, оглянулся на серые хаты, пьяненько стоящие в два неровных ряда, зевнул и снова улегся, зная, наверное, по прежнему опыту, что никто не оценит его усердия, не подаст лишнего куска хлеба. И сразу же началось болото, как пески улицу, дорогу с двух сторон обжало черным застекленевшим глазом нетревоженной воды, железно-бурой ряской, мертво упокоившейся в этой тусклой воде, выползающими из нее ядовито-зелеными бобовниками, копытниками, густо и мощно растущими ольхами и вразнобой, единично дубами, ясенями.
Местами ольха, дубы, ясени полностью скрывали болото, будто стыдились показать Ровде и Шахраю, не хотели без времени запугивать. Отбитые от суши водой деревья незащищенно и тихо задыхались в липком и влажном воздухе после полудня на отвоеванных ими у той воды пятачках земли. Только с мостков, следовавших один за другим, тяжело падали в свинцовые канавы угревшиеся на темном трухлявом дереве рябые черепахи.
— Нечисть,— обозначил и болото, и черепах Шахрай, наблюдая, как те неуклюже перекувыркиваются в воздухе, оголенной костью нижнего панциря, будто голой обнаженной плотью, высверкивают на солнце.
Матвей промолчал, его всегда смущала и подавляла беспомощная кротость этих неловких, хотя и грозных на вид земных тварей. Черепах же здесь повсюду много было, и не только в болотах, водились они и в речке, Матвей когда-то ловил их иной раз удочкой на червяка и едва не плакал, выдирая драгоценный крючок из гадючьей, казалось, но такой покорной, пугливой пасти. Они мертво держали в этой пасти свою добычу, сжимая ее до скрежета зубовного, наверное, от нестерпимой боли, которая входила и в Матвея, утягивали под сохранительный панцирь дряблую старушечью шею, пятились от тепла и безжалостности его рук, только что не кричали криком. И криком кричало все внутри у Матвея. Но страх лишиться крючка был все же громче этого немого крика. А сейчас он чувствовал вину за ту давнюю невольную свою жестокость и поэтому не отозвался на слова Шахрая.
— На это можно жизнь положить,— Шахрай будто понял его, вычленил из того, что их окружало, только болото, повел в одну и другую сторону рукой. И Матвей в душе согласился с ним, но опять промолчал, а Шахраю хотелось разговорить его.— Это можно только ненавидеть,— он опять кивнул на болото. Матвей посмотрел на Олега Викторовича и понял, что ошибается, тот разговаривал сам е собой, отвечал себе на какие-то давно поставленные вопросы. В душе Матвея не было ненависти к этим болотам. Он хорошо знал, что болота не только загораживали свет, плодили мошку, комарье и желто сушили князьборцев лихоманками, но и кормили их ягодой, клюквой-журавиной, давали траву, дрова и птицу, укрывали от врагов. И труднее и вольнее все же за болотами жилось мужику. Матвею не представлялся его Князьбор без болот, но он все же поспешил согласиться с Шахраем, не мог не поддаться твердой сжатости его губ, прищуренной устремленности вдаль. А тот словно увидел перед собой врага, весь внутренне напрягся, изготовившись к схватке, закаменел, будто забронировался. Смотреть в такие минуты на Шахрая было жутковато, но и спокойнее было, видя такую силу, если ты, конечно, заодно с ним. Таким Матвей хотел бы видеть и себя со стороны, въехать в родное село таким. Неопределенно все было в нем, намёшано всего, как в том болоте, и трясины, и воды, и суши, хотелось бежать по верхушкам деревьев и пятиться черепахой назад от обжигающе радостной и такой же горькой своей памяти. Матвей, казалось ему, уже давно выжег ее, ничто вроде не связывало его с Князьбором. А сейчас, наоборот, все — и эти задавленные водой деревья, и гниющие в ней мостки, и пугливые черепахи на них — встало как родительский дом перед ним, будто увидел он бродившую здесь свою собственную тоскующую тень, и тень эта и выглядывала его и боялась увидеть.
Шахрай и он, Матвей Ровда, уже вторую неделю колесили по Полесью, где можно, ехали на машине, а больше продирались на своих двоих, шли пешком. Ободрались, обносились, перемазались. А выправлялись в дорогу на новенькой машине и сами с иголочки, в новых, не утративших еще складского блеска и запаха резиновых сапогах-броднях, в плотных, на «молниях» энцефалитниках с капюшонами, в одинаковых, необмятых, из такой же ткани брюках. Но в первый же день Полесье приравняло их к себе, они влезли в его болота, вымокли по уши, наглотались торфяной воды й заснули у костерка, не просушившись как следует. И второй и третий день были похожи на первый. Ко всему тело Шахрая не переносило комариных укусов, не успевал комар сесть ему на лицо или отвалиться от него, как тут же вздувался волдырь. Лицо Олега Викторовича постепенно превратилось в один большой, покрытый бурой коркой струп. И это Матвею казалось странным. Ведь Шахрай при встрече с болотом представал закованным, готовым повести с этим болотом борьбу не на жизнь, а на смерть. И как легко комары-комарики, дудари-дударики пробивали его, без всякого почтения творили с ним все, что хотели. От болотной воды у Шахрая слипались и секлись волосы, образуя тот печально знаменитый полесский колтун, о котором Матвей уже и думать забыл. И Матвей удивлялся, как мог этот человек родиться и жить на Полесье.
Где-то на четвертый день бесплодных блужданий они разрешили себе отдых, расположились на берегу речки, прополоскали робу, попробовали искупаться и сами, но вода была еще холодной. Легли понежиться в траве. Неслышно подкралась мошка и вроде бы есть не ела, но у Олега Викторовича на следующее утро распухли, загорелись огнем икры ног, поднялась температура. Матвей настаивал на том, чтобы ехать в город.
— Пустяки,— отмахнулся Шахрай. — Это у меня аллергия на болото, теперь уже она не отстанет, пока не завершим дела. Цепкая болезнь нашего века.
— Поколения, а не века,— поправил его Матвей. И Шахрай согласился:
— Пусть и поколения, сути это не меняет. Одно к одному, а все за то, что нам с тобой поразворотистее надо быть, злее и решительнее искать и определяться.
А предстояло им найти площадку под строительство хозяйства, колхоза или совхоза, подходящий участок земли, болот и леса, где можно было бы начать мелиоративные работы. Пока такого удобного участка не находилось. То леса очень древние и могучие, по первой группе, то вовсе непроходимые болота или, наоборот, болотца с тощим слоем торфяников, а если и попадалось что-нибудь подходящее, то в такой уже глухомани — ни подъехать, ни подойти.
— Надо ведь с минимальными затратами,— огорченно вздыхал Шахрай. — Копейку государственную надо беречь. И торфяники глубокие чтобы повсюду, чтобы на века, и дорога недалеко, хотя бы на первый случай — подогнать технику, материалы. И чтобы все показательно, сразу, как говорится, быка за рога.
— Князьбор,— сказал Матвей, глядя, как мучается Шахрай, растирая окаменевшие икры. Он в самом еще начале их поездки знал, что выбор падет на Князьбор, предчувствовал, но не торопился, что- то сдерживало его, смутно противилась душа. Была какая-то неестественность и ненадежность в той быстроте, с какой все решилось — и переход на новую работу, и эта поездка по Полесью с Шахраем. Игра какая-то: поди туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что. А сама поездка нравилась, он посвежел в дороге, обветрился, подзагорел, нос демьяновской породы, как клин меж щек вбитый, лупится, как лупился только в детстве. Солнце кинуло и черноты на скулы, добавило бели в и без того светлые волосы, добавило неба, сини глазам. И глаза смотрели сейчас острее, вглядчивее, видели то, мимо чего скользили раньше, не примечая. Может, виной всему была погода. Дни стояли тихие, без шороха даже, ясные и светлые, солнце было не назойливо, в небе и на земле задумчивость, сосредоточенность на какой-то одной мысли. Мысль эта казалась вечной, но не древней. Она была и в Матвее, только он никак не мог ухватить ее, связать с тем, что происходило с ним, не мог слить себя с тем, что окружало его. Не было в нем покоя и единости, все воспринималось раздробленно, без каких-то внутренних связей: отдельно дерево, отдельно куст, отдельно речка и птица в небе. А в природе все жило слитно и едино, хотя притаенно и, кажется, опасливо. Вот этой опасливости в себе тоже не мог понять Матвей. Чего было опасаться речке, если она течет из-под березы? Береза та без возраста, из надломленного сучка ее капает сок, и там, где он касается земли; где точит капля землю, из желтого разлома глины, как из ореховой скорлупки, бьет родник, клокочет и пузырится белым березовым соком, студеной прозрачностью стекает в ложбину, сливаясь с темной отстоенностью болотных вод. И родник становится пусть еще не речкой, но уже ручьем. И ручей этот с каждым поворотом, с каждым изгибом набирает силу и широту и, сам не заметив того, оборачивается в речку, а она, начавшись с родника под березой, с ореховой скорлупки, бережно собирая росы Полесья, дождинки по капле, капли, принесенные в клювах птицами, большой уже рекой устремляется и докатывает до синего моря. Сказка, но никем не придуманная, Полесьем, его дубравами, борами, болотами и лугами сложенная, быть может, специально для того, чтобы уязвить, подразнить человека, посмеяться над убогой фантазией его рук, прямизной и скукой творимых им рек. Матвей смотрел на эту с каждым днем меняющуюся сказку, и ему хотелось оттянуть, отсрочить то мгновение, когда он останется один на один с землей, со вверенной ему техникой, людьми, настораживало само слово «мелиорация»: мели, перемалывай. Хотя что он знал о ней? Видел мальчишкой еще, как загорелись осушенные торфяники. Это было в последний год его учебы в школе. Жил он тогда в небольшом и грустном некогда пограничном городке между Западной и Восточной Белоруссией, и печать этой пограничности, разъединенности, промчавшейся войны лежала на нем, ощущалась в кривых пропыленных улочках, в уцелевших и полуразрушенных костелах и церквах, в той тоске и обреченности, с которой стояли на этих улочках крохотные, с накидными железными запорами еврейские и польские лавчонки, в неразговорчивых, пребывавших в глубокой задумчивости людях, в бездомных тощих псах, изредка испуганно трусящих по площади. В Князьборе была только школа-семилетка, и все князьборцы, желавшие учиться дальше, прошли через этот городок. Жили по квартирам, но выходные проводили дома. Рабочим поездком, а то и на товарняке ехали до разъезда, от которого до Князьбора стежками-прямушками рукой подать — пятнадцать километров.