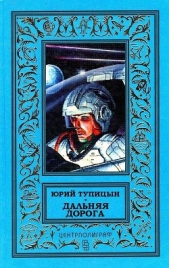Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе.
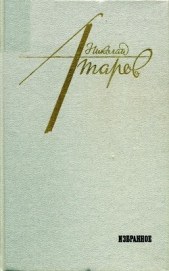
Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе. читать книгу онлайн
Однотомник избранных произведений известного советского писателя Николая Сергеевича Атарова (1907—1978) представлен лучшими произведениями, написанными им за долгие годы литературной деятельности, — повестями «А я люблю лошадь» и «Повесть о первой любви», рассказами «Начальник малых рек», «Араукария», «Жар-птица», «Погремушка». В книгу включен также цикл рассказов о войне («Неоконченная симфония») и впервые публикуемое автобиографическое эссе «Когда не пишется».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И тут несколько слов о вечных нравственных ценностях. Всегда находятся у нас гонители этих вечных ценностей, как будто нарочно они хотят перевернуть этику, всю постройку человека, вниз головой, смешать и спутать верх и низ этой многотысячелетней постройки.
Уметь отыскать что-то необычное, жест души увидеть. Это происходит даже на заседании приемной комиссии Союза писателей. Раскрываешь книжечку неизвестного поэта. Вот есть, оказывается, Галя Чистякова, в ее поединке с любимым горечь:
Это предутренние стихи, очень городские, летние. Это разговор без партнера, — он спит. Это размышление очень молодой женщины, очень влюбленной…
Любовь, конечно, самовнушение. Самовнушение такой силы, что просто материализует это чувство в облике любимой. Все точки обожания избираются самовнушением любви, и постепенно ничего другого не нужно. Даже смешно представить. И только сама она, любимая, может мокрой губкой стереть, смазать… И тогда это ужасно опустошительно, как Хиросима.
Теряю зрение. Запретили смотреть телевизор. Вся семья — полукругом перед экраном, а я — спиной к нему и смотрю, смотрю на родные, в полутьме такие близкие и ясные лица — жены, дочери… И мне кажется, что я видел больше, чем они, пока они смотрели «Время и семья Конвэй».
Меня научил отец. И всю жизнь я не расставался с этой игрой. Шахматы можно будет положить мне под голову. Мой брат Миша был чемпионом родного города, я в молодости мог играть, не глядя на доску…
В хорошей шахматной партии заключена, как в любом жизненном эпизоде молодости, борьбы — жажда романтики, мечта о героическом, ожидание какого-то небывалого свершения, подвига. Совсем не победа, не очко в таблице составляют самое ценное в шахматах, а это ожидание, этот поиск. ‹…›
Иногда мне снятся некоторые позиции, где я увлекся атакой, потерял голову, а ведь мог бы выиграть. Я не сумел бы восстановить положение всех фигур на доске, когда я начал свой сумасшедший маневр, но образ движения фигур, движения ферзя, ворвавшегося в тесные ряды противника, — помню отчетливо: он точно дрался с мечом в руке, мой ферзь. И ничего, что я проиграл эту партию…
Так навсегда с юных лет остался в моей памяти, как музыка, образ чуда из партии молодого мексиканца Торре с маститым Ласкером. Юноша, явившийся из-за океана в Москву, отобрал у старика-чемпиона, набегая и возвращаясь одной и той же фигурой, все фигуры противника по горизонтальной и вертикальной линии. Мельница!
А спертый мат, много раз встречавшийся мне в любительских партиях, когда ферзь бросается прямо в королевскую рокировку, вынуждая себя убить, с тем чтобы в захлопнувшейся ловушке короля заматовал конь… Таран?
Шахматы не хотят покоя — ничья презренна.
Наша реальная жизнь — но скачут кони, атакуют пешечный фронт — «Полтава»!
‹…› Мой старший брат Миша был человек математического склада ума, работал несколько десятилетий, начиная с конца двадцатых годов, автоблокировщиком, обеспечивал нашу безопасность в туннелях, знал одиннадцать языков, играл в шахматы и в теннис. Он вечно подтрунивал над моими литературными увлечениями — «помрешь под забором, и не такие писаки спивались…» И только тогда признал меня писателем, когда прочел мою детективную повесть «Смерть под псевдонимом». Был он меланхоличен и молчалив, а тут позвонил по телефону и почти восторженно расхвалил и книжку, и меня. Это было трудное признание, но я был счастлив. Он оставался старшим в семье.
Для того чтобы книга испаряла правду, надо быть по уши напичканным ею. Тогда колорит явится сам собой как неизбежное следствие и как цветение самой идеи. Но чтобы обилие деталей не заглушало психологической стороны произведения.
Фальшь — это не обман, это блеск обмана. По блеску фальши узнаешь обман.
Так медленно я продвигаюсь потому, что книга для меня — особый способ жить.
Всегда, с первых лет жизни, тоска по совершенству. Это главное, что лежит подпочвой и этих заметок — беспокойство до последнего дня, чтоб не притупилась вера в завтрашнее будущее.
Мне свойственно восхищаться чаще, чем другим. Я не строг? Я сам так одичало мало думаю и работаю? Задуматься об этом. Я впечатляюсь больше, чем другие — может быть, нахожу свои мысли? Примиренчество, соглашательство — в самой душе, ненависти нет.
Палка на клумбе шепчет цветущему кусту — «обопрись!», а сама мертва, суха.
«О коне суди, когда он устанет, о джигите, когда он состарится».
У Козьмы Пруткова есть афоризм: «Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь».
В последнем номере «Литературной газеты» я прочитал заметку — называется: «Всегда ломился в открытые двери». Оказывается, 13 января 1913 года тогдашние шутники устроили в погребке «Бродячая собака» чествование Козьмы Пруткова по случаю пятидесятилетия со дня его кончины. На заседании князь Барятинский прочитал реферат на тему «Прутков и женщины». Было приветствие от автомобильного общества. С шаржами выступил Осип Дымов. И вот что интересно: по правую руку от председателя сидел убеленный сединами старец, в руках у него был корень, и он все время смотрел в корень.
Я прочитал и подумал: кто же будет на моем юбилее вместо этого старца, смотрящего в корень? А почему не я сам — юбиляр? Гостям-то что — посмеялись или поскучали. И разошлись. И забыли. А для меня — событие в жизни…
Дубовый зал в ЦДЛ… С этим залом связаны важные вехи моей жизни. В сороковом году меня принимали здесь в союз. И было мне 33 года. А потом я взрослел, старел, уже участвовал в чествованиях друзей, потом в гражданских панихидах. Первым, кого я тут провожал, был Антон Семенович Макаренко, который вызволил мою первую книгу и взялся даже ее редактировать. Потом были многие, многие другие…
Две самые популярные формы нашей общественной жизни в Доме литераторов — юбилеи и гражданские панихиды. Должна же быть разница, чтобы юбилей не казался генеральной репетицией. Думаю так: на гражданской панихиде говори человеку, который уже не слышит, что он дал, что принес в мир, чем заслужил благодарную память. Юбилейная речь качественно другая. Человек еще не только жив и сам отутюжил свои брюки, но мы еще подбадриваем его: ты молод, все впереди, лет до ста расти нам без старости… Если так, то не уместно ли на юбилее, среди похвал и поздравлений предъявить человеку и некий основательный счет — счет недоделок, недомолвок, недостач…
Все, что ты мог дать по запасу отпущенных тебе судьбой впечатлений и чего не дал — выходит, ты у т а и л. Груз самых ярких воспоминаний — незримый для других — для тебя-то он зримый, весомый? Только задай себе этот вопрос — и годовщина становится для тебя поучительным событием. Ох, сколько памятных впечатлений, сколько электрических разрядов высоковольтного напряжения осталось в твоих проводах, задержано в твоих фарфоровых изоляторах!
В сорок четвертом мне пришлось с войсками вступить в Болгарию. Было множество неожиданных сцен чужой жизни, странных, не наших обычаев. Многие из наблюдений вошли потом в повесть «Смерть под псевдонимом». И вот однажды я и мой шофер, не очень грамотный паренек из Полесья, услышали дробь барабанного боя. Это было в Бургасе, в знойный полдень, на улице, обсаженной платанами. Из лавчонок, из кофеен выбежали приказчики, покупатели, игроки в нарды. Южная толпа любопытна.