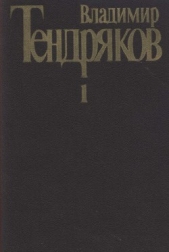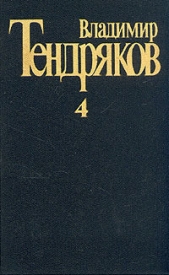Собрание сочинений. Том 4. Повести

Собрание сочинений. Том 4. Повести читать книгу онлайн
В настоящий том вошли произведения, написанные В. Тендряковым в 1968–1974 годах. Среди них известные повести «Кончина», «Ночь после выпуска», «Три мешка сорной пшеницы», «Апостольская командировка», «Весенние перевертыши».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Нет уж, Пийко, не выйдет. Сам справляйся, а меня не трожь.
Евлампий сразу поскучнел, отвел глаза, сказал:
— Выйдет. Куды тебе такому подеться, даже ежели и помилуют. Милостыню под окнами просить не способен — ложись и помирай. А я жить даю.
— А ты спроси: хочу ли я… жить-то?
— Хочешь, Иван, хочешь, даже сидючи. Посажу тебя счетоводом. Кормить будем, поить будем.
— Мне за это перед тобой на лапках служи?
— Лапки-то у тебя попорчены, а вот голова цела.
— Все равно не захочу!
— Чего тебе еще хотеть? Только царства небесного. — Евлампий лениво встал. — Поправляйся скорей… Сев идет неплохо, авось и лето не подведет — с урожаем будем… А курочку съешь, не брезгуй. Когда варилась, соседи слюни глотали. Я-то сам не помню уж, когда и пробовал курятины.
В начале сентября, в ясное прохладное утро, когда трава еще мокра, а пыль на дороге вязка и ленива, двигался через село Иван Слегов.
Бабы останавливались, зажимали рты концами платков, глядели раскисшими глазами — ох, горемыка разнесчастный, господи!
Иван налегал на новенькие, недавно выстроганные костыли, перекидывал чужие, словно привязанные ноги, потел с непривычки.
Он шагал в колхозную контору, где за бухгалтерским скрипучим столом его ждал свободный стул.
Иван Слегов
(Продолжение)
Лицо серое, бородавчатое, оттянутое на одну сторону, правый глаз полуприкрыт мятым веком.
Висит над койкой грузный Иван Иванович.
Он полжизни шел к этой койке. Он почему-то верил — ему придется увидеть Евлампия Лыкова на смертном одре. Верил против здравого смысла — сам-то сидел сиднем тридцать лет и три года, оплывал тяжким жиром, страдал от сердечной одышки, от больных почек, ему ли, калеке, надеяться, что пересидит налитого кипучим здоровьем Евлампия — физиономия словно натерта кирпичом, багровый загривок, ртуть-мужик, для всех неожиданность, что свалился. Не должен бы верить, а верил…
Вот оно… Мир уже разглядывает не живым зрачком — кисельной слизью из-под мертвого века. Очень близкий человек, чаще ни с кем не встречался, теснее никого не знал.
Вдруг Иван Иванович вздрогнул под своим толстым зимним пальто всей кожей: в тенистой впадине виска уловил — бьется жилка, натужно, неровно, еле заметно для глаза, но бьется. Последние толчки бурной, шумной, удачливой жизни.
Охватила неожиданная жалость к Евлампию, неподвижно лежащему под одеялом, чужому Евлампию, с чужим сдвинутым лицом. Собирался напомнить костыли, долги живого потребовать с покойника. Лежачего лягнуть, а лежачему безразлично.
Старый бухгалтер неуклюже зашевелился, развернулся, волоча валенки по крашеному полу, двинулся к дверям, убегая от чужого Лыкова, от своих мстительных мыслей, от самого себя. Лежачего лягнуть… Зачем?
Как тень, качнулся за Иваном Ивановичем Чистых.
Сестра-сиделка проводила их отсутствующим взглядом, села на стул возле койки, принялась за свой недовязанный носок.
В минуты откровения Евлампий Лыков признавался: «Ты, Иван, мой посох, без тебя я так далеко бы не ушагал». Иван Слегов обычно такие откровения встречал молчанием.
Земли села Пожары упирались в земли деревни Петраковской. Деревня большая, по числу дворов не уступала селу. В селе — церковь («Богу помолиться — нас не обойдешь»), зато петраковцы, хоть и подальше от бога, но всегда жили позажиточнее — сидели на заливных лугах, а значит — держали больше коров, значит — и землю погуще сдабривали навозом, почаще ставили на стол щи с наваром. Ни один престольный праздник не проходил, чтоб по селу Пожары не раздавался клич: «Бей жилу!» Пожарец с раннего детства усваивал, что каждый петраковец:
«Бей, братцы, жилу, круши их!»
Петраковцы презирали пожарцев, дразнили:
— Вань-кя! Вань-кя! Продь-ко по доске.
— Чай, я квасу хлябанул — шатае…
Навряд ли справедливо, потому что «Бей жилу!» раздавалось не с квасу.
В Петраковской не было коммуны, как не было коммун в других деревнях и селах, в Пожарах — единственная во всей округе.
Как теперь, так и прежде, все убеждены, что пожарский колхоз поднялся только тем, что Евлампий Никитич Лыков счастливо оказался в председателях. Он — причина.
Иван Слегов вслух не возражал, но про себя никогда не соглашался с этим.
Да, Пийко Лыков — пробивной мужик, да, он и в старости — до того как свалил удар — был быстр на ногу, до всего поспевал сам, а в молодости и подавно не знал покоя — не откажешь, вез воз на совесть.
Но с тех забыто древних времен, когда пещерный мужик провел первую межу по земле, отделил ее от других земель, назвал своею — живет единоличность. И чтоб это тысячелетне мужицкое — мое кровное, не лезь, душу вырву! — кто-то один ретивый за год, за два лихо повернул на коллективное — ну нет, шалишь, слишком просто. Ни прыткость Пийко Лыкова, ни его веселые шуточки не помогли бы. Наверное, и у него, Ивана Слегова, окажись он на месте Пийко, вышла бы осечка. Теперь-то он поумнел, великим деревенским вождем не мнит себя.
Может как-то научить уму-разуму сама жизнь. А село Пожары пережило бесшабашную коммуну Матвея Студенкина. Она прошла у всех на глазах, она насторожила даже самых отпетых: «Берись за ум, плохо будет». Одно то, что Мотьку Студенкина скинули, Пийко поставили, уже говорит — «взялись за ум».
Прыткость Лыкова — не причина. Просто Петраковская не получила науки. Председателем там покорно приняли присланного сверху, похожего на Матвея-рубаку, который сердито жал «на пр оцент», сами неученые примером мужики тянули — кто в лес, кто по дрова, сев дружно завалили в первый же год, петраковские поля — извечная зависть пожарцев — покрылись жирным лопухом и веселой сурепкой. Петраковцы одни из первых начали стряпать пироги из травы…
Лыкову верили, Лыкова слушались, Евлампий Лыков мог при случае припугнуть: «Обратно к Мотьке под крылышко захотелось, оглянитесь на петраковцев — хороши ли?» Это крепко помогало.
Лыков в те годы не мнил о себе высоко, иначе не посадил бы безногого Ивана Слегова: «Советуй!»
Ивану ничего не оставалось, как честно служить: за выручку — «от тюрьмы-то тебя оберег» — и за хлеб — «милостину под окнами просить не способен». Он не подымался со стула, не ездил по полям, но хозяйство знал не хуже самого Евлампия, который обегал его в день по нескольку раз. Советуй… Что ж, изволь.
— Земли за рекой пахать собираешься или нет? — спрашивал Иван Евлампия.
— Вот они у меня где! — Евлампий хлопает себя по короткой шее, еще не обложившейся крутым жирком. — Прыгай не прыгай — тягла нет, рук нет, весна шпарит…
— Раз так, не паши, — роняет Иван.
У Евлампия округляется косящий глаз, рот сжимается в гузку — недоверие и подозрительность на опаленной физиономии: «Иль с ума спятил, иль под монастырь подвести хочет».
— А хлеб нам с неба упадет, что ли?
В ответ спокойный вопрос:
— А много ли сымешь за рекой хлеба?
Молчание. Евлампий сердито посапывает. Он не хуже Ивана знает: абы сымешь, абы нет. Но пусть плоха земля, недородна, тогда тем более усердствуй, чтоб что-то из нее выжать. «Не паши…» — Евлампий сопит.
— Сена в эту зиму не хватило… — подсказывает Иван.
Евлампий сопит.
— И опять не хватит. И всегда не будет хватать, пока новые луга не огорюем… Нам даже суходолы — дар божий.
Евлампий перестает сопеть, глядит Ивану в глаза, по застывшей физиономии видно, что под квадратным черепом колесом крутятся мысли.
— А что, ежели… — говорит он тихо, еще не веря своему прозрению.


![Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/uploads/posts/books/49841/49841.jpg)