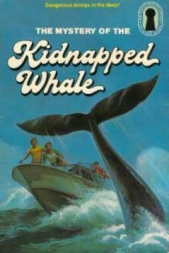Сешьте сердце кита

Сешьте сердце кита читать книгу онлайн
Леонид Михайлович Пасенюк родился в 1926 году селе Великая Цвиля Городницкого района Житомирской области.
В 1941 году окончил школу-семилетку, и больше ему учиться не пришлось: началась война.
Подростком ушел добровольно на фронт. Принимал участие в битве на Волге. Был стрелком, ручным пулеметчиком, минером, сапером, военным строителем, работал в штабах и политотделах войсковых соединений.
В последующие годы работал токарем на Волгоградском тракторном заводе, ходил матросом-рыбаком на Черном и Азовском морях, копал землю на строительстве нефтеочистительных каналов в Баку, в качестве разнорабочего и бетонщика строил Краснодарскую ТЭЦ. Первый рассказ Л. Пасенюка был напечатан в 1951 году. Первая книга — «В нашем море» — вышла в 1954 году в Краснодаре. Став писателем-профессионалом, он много путешествует. Ходил с геологами — искателями алмазов по тайге Северной Якутии, много раз бывал на Камчатке, ездил на Командорские острова, совершил на маленькой шхуне «Геолог» трудное и увлекательное путешествие по Курильским островам. В результате поездок по стране им написаны книги «В нашем море», «Цветные паруса», «Анна Пересвет», «Хозяйка Медвежьей речки», «Отряд ищет алмазы», «Нитка жемчуга», «Семь спичек», «Перламутровая раковина», «Лёд и пламень», «Иду по Огненному кольцу». В журнале «Москва» в 1963 году опубликован роман Л. Пасенюка «Спеши опалить крылья» — о вулканологах Камчатки.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что-то задело руку Бориса. Это была швабра, та самая швабра, которую он хотел недавно вытащить на палубу. Падая, он, наверное, зацепился за нее и оборвал. Теперь швабра могла ему пригодиться.
Борис руками и зубами оборвал на ней размочаленные веревки и приспособил на толстенном держаке скомканную вчетверо жесткую робу. Получилось нечто вроде плотика. Мысленно он поблагодарил Мякенького за необтесанный держак.
Придерживаясь за плотик, Борис поплыл. Он взлетал на гребни волн и проваливался вместе с ними. Ветер и вода несли его к берегу. Да, к берегу, потому что ветер дул вестовый, и впереди лежала земля. Вода жгла холодом, но была она не ледяная. Ставриду ловили на юге, и в начале октября тут еще купались.
Но день выдался ветреный, штормовой, и радости от неожиданной купели Борис не испытывал.
Он все же не растерялся. Ему уже случалось тонуть, подолгу оставаться в воде. Совсем недавно, месяца полтора-два назад, когда «Креветка» лежала в дрейфе близ Тендровской косы, Борис решил искупаться. Он тихонько нырнул и отплыл порядочно от сейнера, прежде чем увидел, что из трубы «Креветки» показался легкий дымок и она повернула в море.
Кричать уже не стоило. День и тогда выдался ветреный, а к тому же у Одессы дни вообще стояли холодные, хотя грело солнце.
Сцепив зубы, Борис повернул к косе. До нее оставалось мили полторы-две. Песок, раскаленный солнцем, издали жег глаза, как нестерпимый лезвийный блеск. Он доплыл до косы и ступил на песок, пошатываясь. Он шел на дымок костра. Рыбаки варили уху. Они были пожилые и ласковые люди. Они сказали ему: «Садись», — и придвинули глиняную миску с ухой из кефали. Кефаль лежала под блестками жира и лепестками луковок разваренная, белая, с ало-оранжевыми стрелками плавников. Ароматный дух простецкого варева ударил Борису в ноздри так, что закружилась голова. Он взял дрожащими руками деревянную ложку и склонился над миской.
Один из рыбаков, бородатый, кряжистый, крикнул в сторону шалаша: «Марья, хлебца парню! И помидоров захвати!»
Из шалаша вышла Марья. Борис почему-то не смел поднять головы, ему почему-то было неловко, но он видел по ногам, босым, загорелым, мускулистым, что она здоровая и молодая, эта Марья. Она протянула ему хлеб — черную ржаную краюху из муки грубого помола, пахнувшую домашней печью, золой и капустными листьями. Он смотрел на хлеб и на ее руку — пальцы у Марьи потрескались, набрякли в суставах, а твердые заскорузлые ногти стыдливо «зацвели» — много было на них белых крапинок, дарованных, как утверждают, человеку на счастье.
Борис знал, что Марья прекрасна. Иной она не могла быть. Он робко взял краюху и вдруг взглянул на девушку отчаянно и покорно. Он увидел обветренное лицо с тугими щеками, слегка вывернутые яркие губы, приплюснутый нос и тяжелые пшеничные, прямо-таки золотые волосы, собранные небрежным жгутом на затылке.
Борис потупился. Ему захотелось поцеловать мозолистую руку этой удивительной дивчины.
«Креветка» вскоре вернулась к косе, и Борис больше не встречал Марью.
…Он плыл неторопливо, стараясь сохранять силу, и полагался больше на то, что его пока поддержат палка с проолифенной робой, да помогут волны, да подгонит ветер. Он плыл, и так как надо было о чем-то думать, все равно о чем, но только не о постигшей его беде, то он и думал… о Колдуне, о «Креветке», о шести месяцах жизни на ней…
Прошло немало времени, и ему стала попадаться дохлая ставрида. В темноте хорошо было видно беловатое свечение ее животов и фосфоресцирующий блеск чешуи.
— Ага, — сказал он вслух, — вы все-таки выбрасываете рыбу. Вас все-таки допекло. Чтоб вы поутопли, сволочи!
Он так и сказал: «поутопли». Он думал о них грубо. Он не хотел, чтобы они благополучно доплыли. Нет. Он устал, замерз, холодом свело челюсти, и первые судороги подергивали ноги. Кажется, он погибал… Он погибал сам и призывал погибель на их головы. Это было бы справедливо. Он был не в состоянии уже сообразить, что утонет и «Креветка», утонут и Паня Тищук и Захар Половиченко…
— Ну и пусть! Пусть они утонут! — в исступлении шептал он деревенеющими губами.
Он изнемогал. Из рук выскользнула спасительная палка, и смыло волной робу, добротную зеленую робу…
— Доплыть бы до порта, — проскрипел он зубами, — до тех кубов, усеянных крабами.
В порту, у волнореза, были навалены огромные бетонные кубы, и всякий раз во время отливов их усыпали крошечные и желтоватые, как медные монеты, крабики. Крабов смывало, а они все лезли и лезли на гладкий замшелый бетон, будто им осточертела вода, опротивело море, будто захотелось им солнца…
Бориса сносило левее кубов, левее порта, и, может, это было даже лучше — не налетит в темноте прохожий корабль, не швырнет волной на бетонные углы, на высокую стенку волнореза.
Потом он как будто стал терять сознание. Но плыл. Почему-то мнилось, что там, на берегу, его должна встретить и протянуть руку с прилипшими к ладони крошками хлеба та красивая синеокая дивчина с налитой грудью, крепкими бедрами и тяжеловатой мужской статью. Та дивчина с Тендры…
И он плыл к ней, он ясно видел протянутую руку, и резал ему глаза ослепительный, снежный блеск песчаной кромки, проступившей в ночи.
А затем потянулась перед глазами нескончаемая, стылая, тупая желтизна. И опрокинулось черное небо.
Рушились миры. Сталкивались звезды. Огненноликие кометы влачили расшитые червонным золотом хвосты.
Рушились миры. Лбами сталкивались звезды. Кометы почему-то походили на пережженно-красные кирпичи с привязанными к ним бычьими хвостами.
Бред… Бред продолжался день, два… А на третий Борис очнулся и долго лежал, уставясь в аккуратно побеленный потолок. Пахло лавровым листом, лекарствами и чем-то приятно щекочущим — кажется, мандариновой сушеной коркой.
Борис осмотрелся. Рядом, на табуретке, стояли микстуры в зеленых бутылочках с ярлычками. Дальше, на столе, лежал кусок выделанной шкуры катрана — черноморской акулы; хозяин дома, очевидно, любил шлифовать дерево. Возможно, он был столяр… Или рыбак.
Борис отчетливо помнил комету с бычьим хвостом. Он силился сообразить, откуда вдруг у кометы взялся бычий хвост. И вспомнил. И усмехнулся.
В детстве отец рассказывал ему, как когда-то, еще до революции, в глухой деревушке, где он жил, солнечное затмение приняли за начало страшного суда. Затмение перешло в ночь. И всю ночь взбудораженные селяне жгли костры, молились и, ждали, когда свалится с неба камень с привязанным к нему бычьим хвостом… Вероятно, бычий хвост являл собою знамение сатаны, может статься, был его визитной карточкой.
В комнату вошла древняя старушка. Она горестно покачивала головкой.
— Очнулся, болезный?
Морщинистыми пальцами, обтянутыми сухой желтой кожей, она взяла с табуретки бумажку.
— Глони вот лекарство, дохтурша велела… Борис протянул за лекарством руку.
— И-и, болезный, чего-чего ты тут наговорил, бог тебе судия, — продребезжала она, пришепетывая. — Ты не с того будешь кораблика, что вот ноньче на мели затонул? Сказывают, «Креветка»…
— «Креветка»? — встрепенулся Борис.
— Ну, я и говорю… Проглони, проглони! Сказывала дохтурша — поможет. Простуда у тебя, вишь. И ослабление организьму.
— А люди, люди? — шепотом спросил Борис, чувствуя, как потеют у него руки. Слабость навалилась на тело, душная и непроницаемая, как плотное одеяло.
— Утопли люди, болезный. До единого утопли. Они, считай, на берегу уже были — ну, ночь, не приметили, вот стало «Креветку» ту на мели валять да обкатывать. Могло быть, они еще в море захлебнулись, бог тому свидетель. Тебя вот сынок мой подобрал на берегу, он сейчас на работе, сынок-то…
— Как утопли? — приподнялся Борис. — Не могли они, не имели они права утонуть!
Ну нет, теперь, когда он спасся, ему не хотелось и смерти тех, на кого он призывал ее еще недавно. Он хотел встретиться с Остюковым, чтобы, может, избить его, выругать, разоблачить… Что-то резко в нем надломилось, и свежий, еще кровоточащий излом должен был привести к возмужанию характера, к более зрелым и продуманным поступкам. Прежним он не мог оставаться.