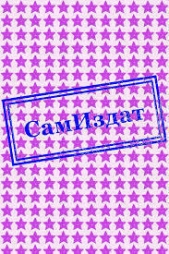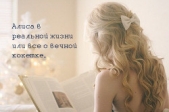Как ты ко мне добра
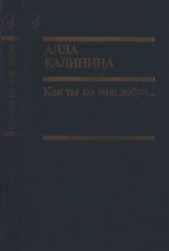
Как ты ко мне добра читать книгу онлайн
Роман Аллы Калининой «Как ты ко мне добра…» посвящен жизни советской интеллигенции на протяжении четырех десятилетий — с сороковых годов до наших дней. В нем рассматриваются вопросы становления личности, героев объединяет напряженный нравственный поиск.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И больше они на дачу не ездили, а стали по вечерам бегать трусцой по тихим и темным арбатским переулкам. Разговаривать на бегу было нельзя, зато можно было любоваться смугло освещенными особняками в глубокой тени деревьев, блеском листвы под фонарями, медленным скольжением красных огней удаляющегося автомобиля, и слушать сухой шорох асфальта под ногами, и ощущать рядом Женю, которого тоже она почти уже потеряла, но вот опять он был рядом, чуть впереди, и частое его дыхание доносилось до нее как весть победы и мира.
Но от мыслей и тут некуда было ей деться, они вспыхивали в голове в такт неторопливому ее бегу и оттого, что их невозможно было высказать, делались еще упорнее и назойливее. А что она-то сама, какая она мать — нежная, внимательная, прощающая? Знает ли она, чем живет ее ребенок, и хочет ли это знать? Ведь она совсем не понимает Олю. Оля кажется ей таинственной и странно могущественной, она равнодушна и в то же время обладает какими-то новыми знаниями, недоступными для нее, Лизы. Почему же тогда ждала она от своей матери самоотречения? Неужели только потому, что она была ближе к смерти? Ведь, в сущности, любовь к детям — это и есть готовность к смерти перед лицом вечности, готовность перелить в них свою жизнь. Вот Женя, он был готов к этому, а она, Лиза, — нет, она не ощутила еще всей душой, что Оля — это и есть она сама в будущем, это все, что останется когда-то от нее на земле.
Пока Лизу спасало только то, что ничего такого Оля от нее и не ожидала, она не была сентиментальна, от родителей ей нужно было немногое — чтобы они не мешали ей постоянно уплывать туда, где она была в своей стихии: в школу, в книги, в музыку, в шушуканья по телефону и загадочные гулянья. И вся их доблесть была в том, что они ей не мешали. Неужели потом она тоже будет требовать и жаждать Олиной благодарности? За что? Так, может быть, действительно она чудовище, если лишена естественного чувства к ребенку? Или это у них наследственный дефект? Или еще ужасней — этой слепой, безусловной любви между родителями и детьми, в которую она упрямо продолжает верить, нет вовсе и не должно быть?
Значит, это тоже только правило игры, по которому считается, что любовь эта якобы существует, чтобы не так тоскливо и одиноко было человеку в мире, чтобы, оглядываясь назад, мог он подумать: «Нет, а все-таки одно существо на свете любило меня безгранично — моя мать».
Что же она, Лиза, наделала? Опять полезла копаться в том, что надо принимать на веру, готовым. Ее мысль разрушала все вокруг себя.
Позже, когда она призналась в своих сомнениях Жене, он разрешил ее муки на удивление легко:
— Ты не учитываешь только одного, но самого главного фактора, — сказал он, — фактора времени. Ты тоскуешь о том, что больше уже не вернется, ты удивительно консервативна, вот в этом и есть твоя главная беда, ты всегда рвешься назад, а жизнь не просто уходит вперед, она мчится. Оля никогда не будет чувствовать того, что чувствовала когда-то ты. Успокойся, она нас любит и понимает по-своему, она жалеет нас, что мы такие смешные и отсталые. Лиза, забудь все, проснись, посмотри вперед. Все, что было раньше, кончилось! Нам надо жить дальше!
Они бегали все лето и осень и перестали, только когда выпал снег. Сердце у Елисеева больше не болело: может быть, от тренировок на воздухе, а может быть, и совсем по другим причинам. Тяжелые, мучительные времена, когда он должен был изворачиваться, лгать, бояться, постоянно следить за собой и стыдиться себя, — эти времена уходили в прошлое, он освободился. И на работе у Елисеева все постепенно входило в свою колею, операции шли, менялись, текли бесконечной вереницей больные, так что он порою не успевал запомнить их лица и судьбы, а помнил только операционное поле, только желудки, пищеводы и желчные пузыри, послеоперационные осложнения, рентгенограммы и анализы, анамнезы и эпикризы, то, что и помнить-то порой не стоило, все это держала бумага. Да и больные тоже редко стремились вернуться в места своих страданий; едва поднимались они на ноги и дрожащими голосами произносили формулу вечной своей благодарности, как уже подхватывались и торопились прочь в страстной надежде никогда сюда больше не возвращаться. И чем тяжелее, чем дороже для него был больной, тем меньше хотел он о нем помнить. Они не возвращались, если только не приводила их назад злая судьба, рецидив или метастаз, и тогда они вели себя и чувствовали так, словно кто-то их обманул, пообещав вечную жизнь. Такие больные всем были в тягость: и себе, и врачам, которые еще раз имели случай убедиться в своем медицинском бессилии перед природой. Природа если уж задумывала эффектный финал, то добивалась его с завидным упорством. Нет, далеко не все могли они сделать. И в общем получалось, что не такой уж благодарный был их труд, как могло показаться с первого взгляда. На больного, явившегося провериться и показаться просто так, сбегались полюбоваться все, сестры мечтательно улыбались, врачи вертели его во все стороны и хлопали по плечам, задавали вопросы и рвались посмотреть то местечко, к которому приложили руку, словно сами не верили, что оно заросло, превратившись в бело-красный рубчатый шов. Случались и у Елисеева такие вот приятные встречи.
Однажды, уже в декабре, явился к нему высокий, бледный, застенчивый человек, сел в ординаторской на стул, аккуратно поставив между белыми валяными бурками клеенчатую сумку.
— Вы у меня лечились? — удивился Елисеев. — Что-то я вас совсем не помню.
— Да нет, не я, дядька мой, Сысоев Николай Акимович, не помните? Рак желудка у него был.
— Сысоева вроде бы помню… Маленький такой, лет шестьдесят, закладывал сильно…
— Он! Он и сейчас выпивает и ест все подряд, вот чудо-то! Вот вы меня забыли, а я ведь к вам приезжал, советовался, стоит ли, значит, мучить зря старика, жена его не хотела, говорила: раз суждено, пускай хоть дома помрет. И вот, пожалуйста, — посетитель засмеялся в кулак, — сама в прошлом году померла летом, а мой дядька жив-здоров, водку лакает. Бывает же так!
— Что же он сам-то не приехал?
— Стесняется. Да он и не очень-то понимает. Мы ведь ему не сказали, что рак-то, он думал, что просто так, для профилактики…
— Ну, а вы что же?
— А я радуюсь. Во-первых, что руку лично приложил, вот к вам пробился, другой врач, может, и не смог, — и он потянул торопливо из сумки что-то огромное и влажное, завернутое в белую тряпку. — Я вообще-то егерь по специальности, вот привез вам сохатины кусок, свежая, сам бил.
— Да стоило ли беспокоиться? Забыл, как ваше имя-отчество…
— Сысоев я, Петр Степанович. Как же не стоит? Я вам очень благодарен. Не только за то, что Акимыч жив, но я вообще в судьбу поверил, задумываться стал. Раньше он мне был обыкновенный родственник, ну дядька и дядька, а сейчас… Я к нему ездить стал, вроде он мой, вроде у нас с ним связь какая. Сидим, в домино стучим, отдыхаем. Ведь это я человеку жизнь спас! Интересно.
— И очень правильно поступили. Ну и что же, что рак? Вовремя захватить — и ничего страшного. Вы молодец, Петр Степанович.
— Вот я и подумал: а как же вы-то? Неужто тоже каждого считаете своим? И тоже жалеете, помните? Или приедается, а?
— Так вы, оказывается, пришли у меня интервью взять? Ну, интересный вы человек. А что же на охоту не приглашаете?
— Да пожалуйста, я адресок оставлю. А неужто вы любите?
— Нет, не люблю, это я так спросил, тоже из интереса. Так вот насчет больных — всегда приятно, когда работа удается, мне — вылечить, а вам — затравить зверя…
— Вот-вот-вот! Вот это самое меня и мучает! Раньше я охоту любил, гордился даже, а теперь чего-то сомнение берет. Я сам теперь редко бью, только из-за мяса…
Он встал, задумчиво и рассеянно, аккуратно затянул молнию на сумке, пригладил белесые волосы и протянул Елисееву крупную, твердую белую ладонь.
— Ну, спасибо вам, доктор, за все спасибо…
Да, Елисееву нужно было признание! Хоть он долгие годы ограничивал свою карьеру ради того, чтобы заниматься только тем, что умел и любил, все равно какой-то эквивалент успеха был ему необходим как воздух. Он его жаждал. Но праздники признания выпадали редко.