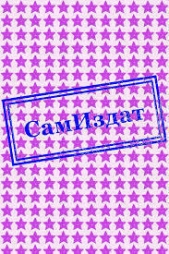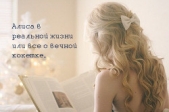Как ты ко мне добра
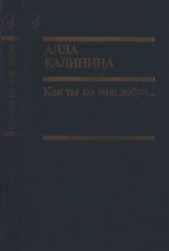
Как ты ко мне добра читать книгу онлайн
Роман Аллы Калининой «Как ты ко мне добра…» посвящен жизни советской интеллигенции на протяжении четырех десятилетий — с сороковых годов до наших дней. В нем рассматриваются вопросы становления личности, героев объединяет напряженный нравственный поиск.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Пожалуйста, пожалуйста, не трогай меня!
Ее саму охватывал ужас от этого шепота, от дрожи, бившей ее, но очнуться она никак не могла.
Тоска длилась, как тяжелая болезнь. Они почти не разговаривали, спали по-прежнему в одной комнате, но отвернувшись друг от друга, скрючившись и боясь пошевелиться, чтобы невольное движение не принято было другим за жест примирения. Лиза спала плохо: едва заснув, вскидывалась в ужасе с колотящимся сердцем от горя, вновь нагрянувшего на нее после минутного забытья. Женя приходил рано, молчаливо слонялся по комнатам, а Лизу мучило болезненное любопытство: когда происходили его свидания и где, и о чем они тогда говорили, и что в это время делала она, и какое у Жени было в тот день лицо… Но, мучаясь и стыдясь себя, она не задавала ему вопросов, и он тоже молчал, растерянный, хмурый. Так прошли несколько дней, и наконец Лиза решилась.
— Что ж, я все обдумала. Нам с тобой надо расстаться. — И пока она произносила эти слова, все внутри нее дрожало от сдерживаемого крика: «Нет, нет, это невозможно, он не уйдет…»
Елисеев помолчал. Он тоже похудел и осунулся за эти дни, под глазами залегли тени. Потом он взял ее за руку, усадил на диван и заговорил горячо, как никогда еще не говорил с ней.
— Лиза, Лиза! — сказал он. — Я все понимаю. То, что случилось, кажется тебе ужасным. Но клянусь тебе, клянусь, это все пустяки! Ты можешь мне не верить, я и сам этого не понимал раньше, но всю свою жизнь я любил только тебя одну, только тебя и больше никого на свете. Пойми, я не об этой истории сейчас говорю, она ничего не стоит, для меня отказаться от нее — одно облегчение, я говорю о другом. Я понял, я все понял, я видел, как ты мучаешься… нет чище, светлее, лучше тебя… Прости меня…
И Лиза вдруг увидела — он плачет. И такая боль сотрясла ее, такая любовь и жалость, как будто одно это его подавленное рыдание стоило целого моря ее слез, и стыдно ей стало, что она лежит, что никуда не хочет его отпускать и давно простила. Совсем не то ее мучило, совсем не то. Что же? Этого она не могла еще осознать, но медленно, медленно выплывало в ней ощущение, что это она, она сама виновата во всем.
Да кто же, если не она? Опустилась, охладела к Жене, хвасталась тем, что старится? И старилась, старилась! Чего же она хотела-то от него? Ведь он живой! А он ни словом, ни словом ей не намекнул, не осудил, не обидел. Он ей поверил, что она старушка, и жалел ее, а она ведь только играла в старость, выдумала ее себе. Какая же это старость? Только распрямиться, только сменить прическу, только вспомнить, как это все было раньше. Но главное, главное — это выражение лица, выражение лица и направление мыслей. Вот что ей надо было переломить в себе, вот в чем главная загвоздка.
А с этим именно и было труднее всего справиться, мысли не давались, уплывали назад, горе не проходило, не забывалось, выплескивалось из-за каждого поворота, словно сторожило ее, не давало отвлечься. Ее мучила ревность, а больше ревности — страх, что была она смешна в глазах тех двух женщин: той, что звонила, и той, с которой бывал ее муж, и в глазах всех, кто знал об этой грязной истории, а знал о ней весь институт. Какой позор, какой стыд!
Время шло, но словно не двигалось вовсе, все еще был март. Елисеев тоже за это время пережил очень многое, но странным образом двигался он — словно бы в противоположном направлении от Лизы. Он, наоборот, судил себя за детское легкомыслие и жаждал угомониться, остепениться, он сыт был любовными приключениями выше горла, он хотел покоя. Но все-таки он не жалел ни о чем, через все это надо было ему пройти, чтобы потом не винить себя за то, что упустил в жизни, теперь он знал — любовь, чувственная любовь, не особенно занимала его. Это было не его амплуа, он был рожден для других побед. И еще больше нужна была ему эта история для того, чтобы снова оценить то, что он имел. Он не понимал, не замечал Лизу, он давно забыл, как считал ее когда-то самой лучшей, самой красивой и самой умной из всех, кого встречал в своей жизни, он к ней слишком привык и сам погасил ее, а теперь должен был вернуть себе это чувство успеха и удачи, что именно с нею прошел рядом свою жизнь. Прошел, неужели прошел? Нет, жизнь впереди была еще длинная, но менять ее на какую-то другую он не хотел.
Дни ползли, пасмурные, томительные, серые, и наконец состоялось у них настоящее примирение, с бурными объятиями и бессонной ночью. Но утром они встали смущенные, разбитые и усталые. От этой ночи осталось у Лизы ощущение неловкости и стыда, что вот любовная история ее мужа с другой женщиной оказалась возбуждающим средством для их угасающих чувств, а не спать ночами было для них уже тяжеловато. Жизнь возвращалась на круги своя. Но ничего, ничего в ней не проходит даром.
Весна наступала поздняя, робкая. Едва заголубело небо и стал просыхать асфальт, тяжесть начала медленно отваливать с их душ, и их потянуло куда-то уехать, в другие, счастливые, солнечные края, вдаль. Но до отпуска было еще далеко, и они выезжали за город просто так, по воскресеньям, неслись куда-нибудь по Минскому пустынному в это время шоссе, смотрели, как тает снег на полях, как проступает из-под него яркая зелень озимых, как солнце ныряет в лохматые серые облака и снова вырывается на голубой сияющий простор и зажигает, оживляет все вокруг. Какими горячими, розовыми делаются весной стволы сосен и как влажнеют и темнеют огромные ели, а стволы берез вдруг теряют свою белизну, стоят потерявшиеся, мокрые, только мелкие их веточки все гуще краснеют на фоне неба. Нет ничего на свете, что лучше бы помогало от тоски, чем солнце и весна.
Потом солнце стало припекать сильнее, на южных опушках сквозь жухлую корку прошлогоднего мусора проступила трава, вспыхнули желтые огоньки мать-и-мачехи, белые бабочки начали вспархивать с асфальта. Они ставили машину где-нибудь на обочине и выходили размяться. В лес было еще не ступить, все растаяло и ползло под ногами, зато в кюветах, полных воды, уже кипела жизнь, что-то росло и пробивалось со дна, прыгали проснувшиеся ошалевшие лягушки, торопливо метали икру, и она висела мутными гроздьями на темных водяных травинках. И вокруг уже цвели какие-то крошечные голубенькие и розовенькие цветочки, собранные в гроздья на мохнатых стебельках. Елисеевы прогуливались на солнышке по шоссе, вдыхали свежий, остренький, сладко пахнущий воздух, а когда налетал ветерок, блаженно ощущали его еще зимнюю ледяную прохладу.
Потом накатили дела, и на прогулки больше не оставалось времени. И постепенно начала понимать Лиза, что опять она ошиблась. Ее беда была совсем не в том, что однажды она почувствовала себя старой, а в том, что слишком привыкла всеми своими чувствами и мыслями делиться с Женей, а этого делать было, оказывается, нельзя. Совсем не одним существом они были, и думали, и понимали все неодинаково, это было глубокое заблуждение. Одиночество, оказывается, нельзя победить, это закон, каждый сам проходит свою жизнь. И как быть, как общаться тогда с близким тебе человеком — было непонятно. Неужели лгать? Нет, что-то другое, скорее — сдерживаться. Вот что должно было ее спасти и не спасло — хорошее воспитание. Ей его не хватило, она забыла о нем, совсем не придавала ему значения, ей казалось, что в отношениях с Женей оно ни при чем. Но это была ошибка. Те ошибки, что бывают у каждого в общении с чужими людьми, мелькнут и забудутся; ошибки же, допущенные дома, наслаиваются, растут, превращаются в непроходимые горы, они страшнее во сто крат. Стоит один раз выйти в несвежем халате или один раз сказать близкому «дурак», и этому уже не будет конца, шлюз открыт, и непоправимые мелочи хлынут лавиной и все уничтожат, все поглотят, все накроют собой. И что-то в таком роде она уже сделала, допустив мужа в те уголки своей души, о которых ему совсем не надо было знать. Она должна была хранить свое одиночество, вместо того чтобы стараться избавиться от него. Это не ложь, это ничего общего не имеет с ложью, это просто норма поведения, которая именно для того и придумана, чтобы один человек не мог повредить другому, да и себе самому при тесном общении. Подтянуться, замкнуть себя внутренне, меньше думать об этом, играть роль по готовому, но вечному сценарию. Она слишком серьезно относится к процессу жизни, лучше было бы жить и не думать ни о чем. Но вкусившего не удержать, она это знала и помнила хорошо.