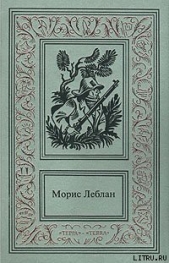Полая вода. На тесной земле. Жизнь впереди

Полая вода. На тесной земле. Жизнь впереди читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну, а дальше?
— Дальше… Тоже справа в этих клетках отбить клеточки по сантиметру на дырки… Раз…
Приходили колхозницы, закутанные в платки, в шарфы. Зябко вздрагивая, притопывали, шутили и ругали свою беспризорную жизнь, в дотах и в землянках. Старик Опенкин журил их за поломанный держак лопаты, за выщербленные грабли.
Не отрываясь от дела, Миша внимательно слушал, как Иван Никитич, сбивая небольшую рамку, обнадеживающе говорил колхозницам:
— Об яровых семенах, конечно, беспокоиться надо. И мы, правление, будем о них день и ночь трубить району, а район — области… Но и то, товарищи колхозницы, надо помнить, что о нашем положении знают и думают и в Кремле. Семена у нас обязательно будут. Готовьте землю, очищайте ее от сорняков, зарывайте окопы и траншеи, а инструмент ломайте пореже.
Прислушиваясь к разговорам старика, Миша иногда работал как-то безотчетно. По ошибке он взял бурав побольше и стал им вертеть. Колодочка треснула, треснула едва слышно, но старый плотник уловил звук лопнувшей колодочки, вздрогнул, но не обернулся в сторону Миши. Старик в это время внимательно слушал маленькую черноглазую женщину, худую, измученную, одетую в стеганый ватник, перепоясанную фартуком из мешковины.
— Иван Никитич, ну а коров-то тех, что майор говорил… когда ж их пригонят? Скоро? С детьми нет сил больше ждать… Никакой силушки.
И женщина уткнулась в каменную стену, закрутила головой так, как будто хотела спрятаться в трещину между камней.
— Замолчи! Слеза что древесный червь. В плотницкой не положено реветь… День-два — и надежные люди отправятся за ними, а теперь уходи и не горячи мне сердце.
Миша видел, как тряслись жилистые, тонкие руки старика, когда он грубовато выводил женщину из плотницкой.
С порога маленькая женщина сказала:
— А ты, дядя Опенкин, не серчай. В бригаде пристаю к Марье Захаровне, а тут — к тебе. К кому, как не к вам, за подмогой и за советом?..
— Серчаю я, что не могу коров доставить самолетом! — ответил старый плотник и вслед за женщиной скрылся за дверью.
Вернувшись, Иван Никитич сел на верстак. Мише странно было видеть старого плотника неподвижным. Заметив, что Иван Никитич уставился на лопнувшую колодочку, он пристыженно заговорил:
— Дедушка Опенкин, я задумался и дал маху. Буду работать хоть до полночи. Вы же, должно быть, тоже не сразу…
— А ты сердечный… Обмундировка на тебе вот эта вся?.. В чем в доме, в том и в поле?..
Он неловко усмехнулся и задумался, но, неожиданно сорвавшись с верстака, строго сказал:
— Работать! Работать!
И плотницкая наполнялась то шорохом стружек, то свистом пилы и шарканьем рубанка.
Вислоусый кузнец, матовый от угольной копоти, открыв дверь, шутливо прищурил глаза, как бы спрашивая Мишу: «Плотник твой воюет?» Миша отмахнулся от кузнеца и с новым усердием принялся за дело.
Приближался конец дня. Старый плотник, собираясь уходить в правление колхоза, убежденно говорил Мише:
— А может, останешься ночевать здесь, в кузнице? Около горнов куда теплей, чем в доте. Тут Гитлер во сне не приснится. Матери скажу, где ты остался. Я увижу ее сейчас в правлении…
Помня о Гаврике, Миша ни за что не согласился с предложением Ивана Никитича и заторопился домой.
— Ты ж не проспи! Плотники и кузнецы умываются на заре! Ну, счастливой дороги! — напутствовал его Иван Никитич.
На опустошенном косогоре, под низким, облачным небом с редкими заездами, стояла густая тишина. Только в подземелье где-то хныкал ребенок: «Ма! Ма! Ма!..»
В единственном уцелевшем домике тускло светились окна. По ним мелькали тени, то и дело на стекле вырисовывалась седая раскачивающаяся мужская голова. Долетали слова:
— Шефам нужны рабочие руки — грузить доски, кирпичи, камыш… Надо в степь, надо за трубами на «Металлургию».
— Алексей Иванович, а ты лучше скажи: чего не надо? — спрашивал другой голос.
— Я то же самое говорю — все надо, и на все наряды выписывай… Хоть разорвись.
— Товарищ председатель, не обижайся — дам тебе совет: в первую очередь наряжай людей за скотом. А разрываться потом будешь.
«Это мама», — весело подумал Миша.
В доте все было по-прежнему. Маленький ночник под тщательно вычищенным стеклом горел, как яркая свеча. На сундучке сверху клеенки белел клочок бумаги. Миша взял его и прочитал:
«Пропащий сын, пышки в духовке. Все твои. Слыхала, что в подмастерьях у деда Опенкина… Угодить ему не просто. Наморился небось?»
«Пышки буду есть после, а сейчас поговорим с «Островом Диксоном».
Миша опустился на корточки, улыбнулся и осторожно позвал:
— На «Острове Диксон». Говорит «Большая земля»… «Остров Диксон»!
Но «Остров» не отвечал. Миша решил, что Гаврика или нет в землянке, или, намаявшись, он крепко заснул. Нужно усилить позывные.
— «Остров Диксон»… — затянул он погромче.
— СОС! Ты с ума сошел? Мама вернулась, пропадем, замолчи! — испуганно ответил Гаврик.
— Чего же она раньше времени вернулась? Недисциплинированная, — пошутил Миша и, поняв, что Гаврику сейчас и в самом деле не до разговора, отодвинулся от трубы. Ему стало обидно, что не удалось передать по прямому проводу то, что пережил сегодня. Равнодушно пожевав пышку, он нашел клочок бумаги и стал писать Гаврику письмо.
Миша писал о том, что майор оказался «настоящим богом войны», что с ним по-военному быстро он обо всем договорился и что остальное зависит от старика Опенкина.
«Ты, Гаврик, не унывай. Не пошлют за коровами, так я добьюсь другого: будем вместе работать в мастерских. В мастерских — не в доте. Там не работа — жизнь! Здорово! Гаврик, помоги в одном деле: подыщи что-нибудь такое, из чего можно бурки сшить. Старик заводил разговор о поездке и приглядывался к моим ботинкам. Боюсь, как бы обмундирование не забраковал».
Закончив письмо, Миша сказал себе: «Утром обязательно письмо передать Гаврику».
Помня, что с утренней зарей надо бежать в плотницкую, Миша замаскировал трубу травой и лег спать.
Утром следующего дня Гаврик, прочитав письмо, никак не мог придумать, что ему сделать, чтобы у них с Мишей были бурки. Это злило Гаврика; землянка казалась ему еще тесней, и все в ней раздражало — и заплесневевшие бревенчатые стены, и низкий потолок, и узкий, будто нора, выход, и густая, как в погребе, сырость. Выносил ли он на воздух полосатый матрац, чтобы выбить из него пыль, вытряхивал ли одеяло, взбивал ли подушки — он все время трубным голосом пел свой, ему лишь известный марш, в котором единственная нота бесчисленно повторялась:
Забегавшая на минуту мать, высокая, по-мужски широко шагающая женщина, уходя, сказала:
— Нюська, Гаврик наш забубнил — теперь он или гору своротит, или на небо взлезет.
Нюська смотрела на трещавшую на ветру мельницу, на Гаврика. Вздохнув, она спросила:
— Гаврик, ты на небо полезешь?
Подметая около порога, Гаврик сердито отвечал:
— Что я там — шапку забыл? На земле не знаю, что делать…
— И не лезь туда, а то как оборвешься… А мельница как останется? Я как зареву, а мама заругается…
— Что вам больше — тебе реветь, а маме ругаться…
Мимо землянки в степь шли двое трактористов. Один из них был бригадир Петр Васильевич Волков, другой комсомолец Руденький, недавно присланный из Города-на-Мысу.
Гаврик слышал от комсомольцев полеводческой и огородной бригады, что Руденький, наверное, будет секретарем комсомольской колхозной организации. Гаврику было интересно знать, о чем разговаривает Руденький с бригадиром.
Волков, раскачивая на ходу широкими плечами, гудел глухим басом:
— Нынче должно потеплеть. Дует полуденка. А от тепла не откажемся. Пахать-то придется до первой пороши. О другом нам и не мечтать…
Руденький засмеялся:
— Петр Васильевич, я знаешь о чем еще мечтаю?