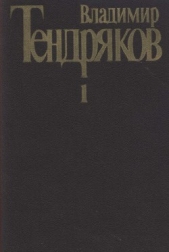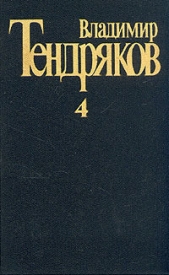Собрание сочинений. Том 4. Повести

Собрание сочинений. Том 4. Повести читать книгу онлайн
В настоящий том вошли произведения, написанные В. Тендряковым в 1968–1974 годах. Среди них известные повести «Кончина», «Ночь после выпуска», «Три мешка сорной пшеницы», «Апостольская командировка», «Весенние перевертыши».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Здравствуйте.
Поспешно и чуть смущенно, так как не слишком знакомы, но доброжелательно. В такое утро недоброжелательным быть просто нельзя.
Штабеля рыжего кирпича, отвалы выброшенной глины, щепа, густо покрывающая истоптанную землю, щепа, почему-то вкусно пахнущая арбузом…
Вот уже третий день подряд я прихожу первым, сажусь на бревна, и жду, и слушаю все возрастающий шум просыпающегося села. Замычали выгнанные из-под крыши коровы на скотном дворе, раздались звонкие молодые голоса скотниц:
— Куд-ды тебя понесло, шалава!..
— Эй, Глашка! Ворота закинь, в поле вырвутся, канальи!
Глухо застучал на берегу реки в тесовой будке движок, погнал по трубам воду. Ему отозвался в самом селе железным ревом запущенный трактор. Парнишка проскакал на неоседланной лошади, глухим переплясом простучали по пыльной дороге копыта.
А сказка живет во мне. Пока никого нет, я примеряю ее на ту жизнь, которая вот-вот обступит меня вплотную.
Скоро придет Руль со своими Рулевичами.
Старик Руль быстрей других хватает то, что я говорю. «Коль польза прямая налицо, то какие еще нужны доказательства?..» Признает пользу, не нуждается в побочных доказательствах. До этого я сам с трудом и оглядками долго добирался сквозь лес логических рассуждений. Он же принял это сразу, не задумываясь. За свою долгую жизнь он узнал что-то такое, что мне было недоступно. Руль один из всех подставляет мне плечо. Пока что на него одного я могу опереться…
Не в силах устоять перед соблазном — мысленно сравниваю старика Руля с верным Петром, рассудительным рыбаком с моря Галилейского… Конечно, всякое сравнение зыбко, конечно, нет полного совпадении, я просто раздвигаю рамки своей сказки, а в сказках допустим вымысел.
Пугачев… С кем его сравнить? Он не верит мне, недоумевает. «Лошадь с рогами!» Может, с неистовым Савлом, который стал столь же неистово верным Павлом?..
Савл?.. Нет! Пугачев и умней, и благороднее. Он не отталкивает меня с пеной у рта — прочь, нечисть! — он тянется ко мне, старается понять. Говорят, у Христа был еще ученик — Фома Неверующий…
Савлом скорей может стать Гриша Постнов. Сейчас он кипит и отвергает — «заразу несешь!» — а завтра, глядя на других, поверит и непременно энергично, готов будет бить морду тем, кто уверовать не успел.
Митька Гусак… Этого легко уговорить, но он так же легко и отойдет, особенно если помаячит мотоцикл в качестве тридцати сребреников. Но при этом он искренне простодушен. Не таким ли был и Иуда Искариот?
Э-э, сказка сказкой, но не слишком ли я?.. Митьку Гусака в Иуды, себя, разумеется, в Христы — от скромности не умрешь, парень.
А собственно, что тут такого? Я стремлюсь к тому, к чему с незапамятных времен стремится исстрадавшееся человечество, — к взаимопониманию друг друга, к взаимоуважению, к взаимолюбви. «Люби ближнего твоего…»
Стремлюсь к этому, мечтаю об этом. И что за беда, если в мечтах я залечу к тем высотам, какие достигало человечество? Постыдно корчить из себя Христа, но не постыдно к нему стремиться!
— Здоров…
Нет, не Руль с Рулевичами, раньше их сегодня явился Санька Титов. Кажущийся сутуловатым от излишней просторности в покатых плечах, не столько хмурый, сколько сосредоточенно насупленный, он, пришлепывая широкими резиновыми голенищами по толстым икрам, прошел к сторожке, погремел там, вышел с топором, лопатой, молотком. Скупым и сильным движением он глубоко всадил топор в бревно, сел, положил на обух лезвие штыка и… все звуки пробуждающейся жизни утонули в жестяном скрежещущем грохоте. С сумрачной деловитостью Санька принялся отбивать лопату.
Я как-то совсем забыл его, не пустил в свою сказку. Уж больно не сказочное существо — Санька Титов.
Окажись я и в самом деле или воскресшим из мертвых Иисусом Христом, или лошадью с рогами, он нисколько не удивится, не изменится в лице, останется по-прежнему насупленно сосредоточенным. Его как-то нельзя представить верящим — в бога ли, в науку ли, в коммунизм ли. Все это для него где-то в стороне, а он умеет думать только о том, что видит. Вчера увидел, что тупа лопата, подумал — надо отбить. Сегодня вспомнил — и вот исполняет.
К селу Красноглинке летят громкие жестяные звуки…
— Перекур!
Гриша Постнов, если я слишком близко приближался к нему, покрывался гусиной кожей… от неприязни. Пугачев же бросает топор и садится напротив. Лицо его — медная чаша — темно, глаза сужены. Похоже, он уже не может без меня — лошадь с рогами! Пугачева мучает тайна: не от выгоды сменил я Москву на Красноглинку и ученые книги на святое писание — тоже не от невежества. Может, мир начал помаленьку трогаться с ума, а может, есть какая-то правда в том, что люди держатся за бога?..
Раз даже Пугачев послал после работы за поллитровкой Митьку Гусака:
— Посидим поплотней. Тут ведь без поллитры не разберешься.
Но из этого ничего не получилось, так как сразу же нагрянул Мирошка Мокрый, первый пьяница в Красноглинке, — фетровая шляпа, утратившая и цвет и форму, но не утратившая муаровой ленты, красная рожа в зловещей медной щетине, мокрый рот до ушей…
— Бра-ат-цы! Огнем вечным горю! Негасимым! Всю жизнь заливаю, залить не могу! Не человек я, братцы, а почетная могила неизвестному солдату!
Мирошка не давал никому сказать ни слова, кричал о своей особе и водке, которая так ему люба.
— Перекур!
И Пугачев садится напротив меня — лицо темно, глаза сужены. Он уже весь изранен и ждет новых ран. Беспокойный человек, брат мне по крови.
Наконец-то я почувствовал в себе силы решиться на то, что больше всего меня пугало, — написать Инге, сообщить ей правду о себе. Тянуть дальше нельзя, Инга рано или поздно узнает — если уже не узнала, — что уволился с работы. Как ни страшна правда, а полное неведение всегда страшней.
Я не хотел писать письмо на глазах у тетки Дуси, не хотел, чтоб в эти минуты кто-то видел мое лицо. Я спрятался за занавеску, забрался с ногами на кровать, пристроил на коленях Библию, положил на нее листок бумаги, вывел:
«Инга родная!»
И задумался… Да, родная, но сейчас собираюсь разорвать последнюю ниточку родственной связи. Родная в начале письма, чужая в конце.
«Я должен просить у тебя прощения, — начал я, — за то, что когда-то встретился с тобой, за то, что стал твоим мужем, за все семь лет совместной жизни, за дочь, наконец. И прекрасно понимаю безнадежность своих оправданий. Сколько бы я ни оправдывался, все равно в твоих глазах останусь не просто виновным, а преступно виновным.
Что же случилось? Я и сам во всем толком не разберусь. Может показаться смешным, но причиной моего странного поведения стали высокие, можно назвать, потусторонние явления. Как и всякий нормальный человек, я свято верил в торжество разума, а так как наука — самое яркое проявление разума, то верил и в ее торжество, в ее спасительную миссию. Я был настолько слеп, что не видел — с расцветом наук войны не исчезают, а становятся страшнее, и прохвосты на свете не редеют.
Я не могу славить науку, как до сих пор славил, мне нечему стало верить, не к чему стремиться. Мои мысли, знаю, покажутся неубедительными, затрепанными, мое поведение — диким. Но что делать, когда мне начало казаться, что мое появление на свет — бессмыслица; бессмысленно, что встретился с тобой, живу с тобой, воспитываю дочь. Можно ли так жить? Не лучше ли оборвать бессмыслицу?
Осуди меня, что я от отчаяния обратился к тому, к чему люди обращались испокон веков — к богу! Признать бога — значит признать его руководство, признать существование некой высшей цели. Словом, я стал верующим, на свой манер, конечно. И вот тут-то начала шириться между нами незримая пропасть.
Ты, Инга, довольна жизнью, какой живешь, я — нет! Могу ли я требовать — откажись во имя меня от тех, кто тебе близок по взглядам и по духу? Могу ли я обречь тебя на осуждение, возможно, на остракизм и осмеяние? Осуждение должно пасть и на нашу дочь. В моей жизни произошел духовный скачок, почему это должны разделять со мной мои близкие?
Я не могу стать прежним, не хочу ломать вашу жизнь, значит, мне необходимо исчезнуть. Признаю — выход из положения грубый, болезненный, но болезненней вдесятеро нам жить вместе. И выход единственный, выбирать не приходится — я исчез. Так лучше вам, так лучше мне.
Едва я встану на ноги, постараюсь тебе помогать изо всех сил. Правда, вряд ли от меня теперь будет большая помощь. На четвертом десятке лет я начинаю жить сначала. Сейчас я зарабатываю себе хлеб ломом и лопатой.
Не могу быть прежним.
Пойми, если можешь. Прости, если можешь. Если можешь, забудь. Так лучше.


![Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/uploads/posts/books/49841/49841.jpg)