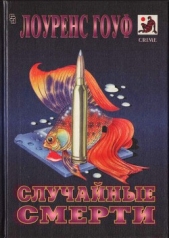Случайные обстоятельства
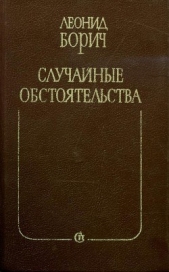
Случайные обстоятельства читать книгу онлайн
Герои нового романа Леонида Борича «Случайные обстоятельства» — наши современники. Опытный врач, руководитель кафедры Каретников переживает ряд драматических событий, нарушающих ровное течение его благополучной жизни. Писатель раскрывает опасность нравственной глухоты, духовного мещанства.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я ее в кладовку спрятала, — сказала Надежда Викентьевна задрожавшим голосом. — Она мне так папочку напоминает...
Никогда при жизни отца она не называла его «папочка», и это вдруг появившееся слово ощущалось Каретниковым как что-то нарочитое, неестественное и всякий раз коробило его. С удивлением он посмотрел на мать: потому, что настольная лампа напоминает ей об отце, мать и снесла ее в кладовку?!
— У тебя же в кабинете хорошая лампа, — сказала Надежда Викентьевна.
Каретников ничего не ответил, нашел в кладовке настольную лампу отца и перенес ее к себе. После этого, как ему показалось, кабинет стал много уютнее, Андрей Михайлович даже заметил, что и работается ему под этой лампой гораздо лучше.
Вообще бережное отношение к вещам, которыми отец пользовался или хотя бы изредка прикасался к ним, приобрело в глазах Андрея Михайловича какую-то особую значимость, подчеркивало верность памяти об отце, стало своего рода символом — пусть, как всегда в подобных случаях, безнадежно запоздавшим, но оттого еще более серьезным и важным, раз при жизни отца никакого отношения к его личным вещам и предметам у Андрея Михайловича попросту не было, он вряд ли и замечал-то их, чтобы хоть иногда проявить некоторое любопытство. Теперь же, растравливая себя и ощущая от этого даже определенное удовлетворение, как бы очищаясь от некой вины за свою невнимательность к отцу при его жизни, Андрей Михайлович вспоминал и отыскивал все, что так или иначе связано было с отцом.
В кабинете, на книжном стеллаже, много лет пролежали без дела старинные серебряные карманные часы «Павел Буре», которые отец давно забросил, и Андрей Михайлович стал по вечерам аккуратно заводить их, дивился чистоте и звонкости хода, твердо решив отныне, что будет постоянно носить их как память об отце. Однако пользоваться ими было непривычно, к тому же они заметно тяжелили полу пиджака, да и специальный кармашек для таких часов был предусмотрен лишь на выходном костюме, и все это вместе очень усложняло намерение Андрея Михайловича, так что спустя несколько дней пришлось снова вернуть отцовские старые часы на прежнее место, но заводил их Андрей Михайлович с прежней аккуратностью, а иногда, чтобы лишний раз в руках подержать, и о времени по ним справлялся, гордясь в такие минуты своей незабывчивостью.
Поначалу он решил и авторучку отца носить, рядом со своей, но оказалось, что пользоваться ею неудобно: отец, видимо, с наклоном писал, отчего сбоку сильно источилось перо, и, если держать его ровно, как привык Андрей Михайлович, оно оцарапывало бумагу. Словом, и от этой затеи пришлось вскоре отказаться.
Зато для письменного стола он купил в комиссионном магазине красивую небольшую рамку красного дерева и долго выбирал, какую бы из отцовских фотографий вставить в нее. Как было бы хорошо сейчас, найди он хоть одну с дарственной надписью. Ничего бы и не надо такого особенного, просто несколько слов, но именно к нему обращенных, к нему одному: «Сыну на память. Отец». Мог же когда-нибудь и сам попросить, а не догадался. Не знал, что это так потом нужно...
Не было среди них такой, которая бы походила на отца последних лет его жизни, а Каретникову как раз такую хотелось, когда отцу было уже за шестьдесят, и чтобы с фотографии он улыбался своей мягкой, всегда отчего-то чуть виноватой улыбкой. Наконец одна такая нашлась — любительский снимок, недодержанный, видимо, в закрепителе, пожелтевший по краям, — и надо было снести ее в фотоателье: может, там что-нибудь сумеют с ней сделать, чтобы убрать желтизну.
Андрей Михайлович выбрал для этого день посвободнее, когда в институт можно было прийти часа на три позже, обычного, и он решил не садиться в троллейбус, а прогуляться пешком. Благо погода выдалась на редкость солнечной и тихой для середины осени, на деревьях и кустарнике в саду напротив их дома горели золотом еще не одинокие листья, особенно ярко выделяясь на почерневших ветках, а сами ветки прослеживались уже подробнее, и тончайшие полуоголенные их окончания напоминали Андрею Михайловичу разветвленные капилляры под микроскопом.
Солнце слепило глаза, нагревало плащ на груди и плечах, идти хотелось совсем медленно, лениво нежась, никуда не спеша, и сквозь прищуренные веки посматривать по сторонам, замечать каждое здание, людей по отдельности, думать умиротворенно, ласково о чем-нибудь приятном и немного печальном, когда-то бывшем с тобой — именно уже прошедшем, чтобы оно не требовало сейчас каких-то хлопот, действии, поступков...
Он вдруг вспомнил, проходя мимо Главпочтамта, что его там уже давно, наверно, ждет письмо от Веры. И хотя их знакомство вроде бы не должно было иметь продолжения, Андрей Михайлович все же зашел на почту за ее письмом. В этом он видел как бы заочную вежливость, обязательность интеллигентного человека, верность обещанию, своего рода признательность ей за хорошие дни, и это ему сейчас понравилось в себе.
Ему как-то никогда раньше не приходилось получать письма до востребования, и теперь, войдя в большой и очень высокий, в два этажа зал, Каретников неожиданно ощутил не то чтобы запретность того, что он собирался сделать, но, во всяком случае, некую все же предосудительность своего появления здесь. Ощущение это меньше всего было связано с его личным отношением к своему поступку, скорее оно объяснялось возможной оценкой этого со стороны, как будто кто-то и в самом деле мог знать или хотя бы догадываться, зачем он здесь. Разумеется, это было, как он прекрасно понимал, совершенным вздором, нелепостью: ведь он же сам не обращал внимания на тех, кто подходил сейчас к окошкам «До востребования», — какое же дело кому-нибудь другому до него?
Но одно дело понимать вздорность и нелепость своих ощущений, и совсем другое — тут же поступать сообразно с этим пониманием.
Все понимая и даже подтрунивая над собой, Каретников тем не менее все-таки медлил, издали выискал окошко «До востребования» со своей буквой над ним и, не замечая собственной нелогичности, долго простоял у газетного прилавка, перелистывая первый попавшийся ему на глаза журнал, и уж только потом, как бы попривыкнув за это время и к залу и к своему нахождению здесь, подошел наконец к окошку с видом человека, который вообще-то забрел сюда совершенно случайно, но, раз уж забрел, решившего на всякий случай проверить, нет ли вдруг и ему письма.
Придав себе выражение озабоченности какими-то иными, более важными делами, Каретников молча протянул в окошко свой паспорт.
Седая, гладко причесанная женщина с нездоровым одутловатым лицом (сердце? почки? — сочувственно, но вскользь подумал Каретников) шевельнула несколько раз блеклыми губами, считывая, видимо, с его паспорта и фамилию, и имя-отчество.
Ему показалось, судя по длительности процедуры, что ей и этого мало, и, чтобы поскорее избавиться от тягостной паузы, Каретников пониже наклонился к окошку, давая этой женщине возможность, если вдруг есть и такая необходимость, сличить его лицо с фотографией в паспорте.
Женщина коротко, без всякого любопытства, но вместе с тем и с какой-то профессиональной, что ли, цепкостью взглянула на Каретникова. Неизвестно почему он ожидал, что в глазах у нее промелькнет сейчас хоть какое-нибудь живое чувство, но лицо ее, как только она удостоверилась, что все сходится и все правильно, окончательно потухло, стало еще более бесстрастным, и она быстро и ловко стала перекидывать письма в ящичке. То, как это все проделывалось — деловито, автоматически, без какого бы то ни было личного интереса к этой стопке писем и к самому Каретникову, — словно бы подчеркивало надежность, тайну, анонимность происходящего, и Андрей Михайлович, совсем уже успокоившись, снова стал посмеиваться над нелепостью своего ощущения, которое он было испытал, переступив порог этого зала. Теперь даже и само поведение женщины в окошке придавало появлению Каретникова какой-то явный, успокаивающий его оттенок заурядности, обычности, полной законности своего поступка. Появляйся он у этого окошка хоть каждый день, это, наверное, нисколько не удивило бы ни женщину, которая рылась в стопке писем, ни кого-нибудь другого.