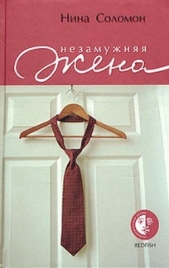Шум дождя

Шум дождя читать книгу онлайн
ОБ АВТОРЕ: Владимир Германович Лидин родился в Москве в 1894 году. Образование получил в Лазаревском институте восточных языков и Московском университете. Литературную деятельность начал в 1915 году. Гражданскую войну провел в рядах Красной Армии, в Великую Отечественную войну был в рядах Советской Армии, работал также в качестве военного корреспондента в газете "Известия". Основные книги Вл. Лидина: "Норд" (1925 г.), "Идут корабли" (1926 г.), "Пути и версты" (1927 г.), "Отступник" (1928 г), "Искатели" (1930 г.), "Могила неизвестного солдата" (1932 г.), "Великий или тихий" (1933 г.), "Дорога на Запад" (1940 г.), "Изгнание" (1947 г.), "Далекий друг" (1957 г.), "Ночные поезда" (1959 г.), "Люди и встречи" (1961 г.), "Дорога журавлей" (1962 г.), и ряд других книг.
В этом небольшом сборнике представлены рассказы, написанные Владимиром Германовичем Лидиным за последние два года. Лидин — мастер психологического рассказа. Рассказы Лидина отличает глубокое внимание к жизни простых людей, скромных и честных тружеников, тонкость психологического рисунка, лиризм.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вальс
Жена принесла выглаженную до блеска рубашку и положила ее на стул. На спинке стула уже висел черный пиджак, а потом, когда Василий Петрович оделся, жена стала повязывать ему галстук. Он всегда повязывал галстук криво, а у Ольги Михайловны были ловкие руки, и он, скосив глаза, смотрел на ее руки, как они повязывают галстук, он знал эти руки и любил их почти уже тридцать лет, он знал эти руки в минуты счастья, знал их и в часы горести. — Ты осторожней подтягивай галстук, а то изомнешь воротничок, — напомнила жена, как обычно. Он был высокий, своим длинным худым лицом и бородкой похожий на седеющего Дон-Кихота, жена была ниже его, она всегда была ловкой и умелой, и столько уже разделено с ней всего, что дает или отбирает жизнь… — Вернусь, наверно, поздно, ты меня не жди, — сказал он. — Наши молодые люди по такому поводу забывают о часах, им что — у них впереди только дни и дни, — он сдержал себя и не добавил "а у нас только вечера и вечера", — он хотел быть с молодостью, со всеми ее надеждами и безоглядным счастьем…
А потом за учителем пришли выпускники, это было в традициях школы. За всеми учителями приходили в день выпуска вчерашние ученики или ученицы, и со всех сторон собирались постепенно в школу те кто учил, и те, кого учили, — в этот день было равенство. В этот день в большом конференц-зале стоял покрытый зеленым сукном длинный стол, за столом сидели учителя, они походили в этот день на старых моряков у пристани: они провожали молодых в плавание, как старые капитаны провожают молодых моряков, предупреждая, что море требует от человека труда и выдержки, что оно может быть тихим и ласковым, но может быть и угрюмым и бурным… Это так походило на проводы в море, что Василий Петрович купил даже как-то старинную французскую гравюру, на которой старые рыбаки и их жены ожидали на берегу ушедших в море сыновей, а огромные волны разбивались о каменистые гряды, огромные валы Атлантики, наверно, где-нибудь возле скалистых берегов Финистерра. Так было и в этот вечер, как каждый год во время очередного выпуска, только сменялись ученики, а учителя оставались прежние, однако и они редели понемногу… Но он, Василий Петрович Холщевников, был по-прежнему на месте, и две лучшие его ученицы — Люда Надеждина и Бэллочка Кравец — пришли за ним, они принесли цветы, Ольга Михайловна растроганно поставила цветы в вазу, она умела так красиво и ловко распушить букеты, что в комнате сразу становилось празднично. — Только не слишком загуливайте Василия Петровича, — сказала она, — вы за ним все-таки присматривайте. Она потихоньку, чтобы он не заметил, сунула ему в карман металлический флакончик с валидолом, кто его знает — как оно разволнуется по случаю проводов, старое сердце… Она осталась одна в комнате с цветами, а ушел со своими ученицами, она видела в окно, как он идет с ними, высокий и худой, в такие дни державшийся особенно прямо. С утра шел дождь, но под вечер солнце все же выглянуло и сделало вечер теплым и желтым. Они шли втроем — учитель и его ученицы — в сторону школы, в ее распахнутых окнах видны были молодые девичьи плечи, впервые открытые по-бальному, белые воротнички на юношеских шеях, обычно в широком расстегнутом вороте рубашки, цветы, и трубы оркестра уже нетерпеливо покряхтывали в ожидании тушей и вальсов… — Вы счастливый человек, Василий Петрович, — сказала Бэллочка, готовившаяся стать филологом, — вы каждый год переживаете все это. А для нас это единственный вечер и больше уже никогда не повторится. Я даже не представляла себе, что будет так грустно расставаться со школой… но вы ведь не забудете нас. — Я-то не забуду, — усмехнулся он, — я-то не забуду. Он не добавил, чтобы этого лишь не забыла их молодость, у которой другие встречи и обольщения, и разочарования впереди, и все то, что дарит или отнимает жизнь… Но он ничего не добавил, от девушек немножко пахло духами, наверно, родители подарили каждой по флакончику или мать надушила их, теперь уже можно было надушиться, идешь в школу на прощальный бал… Бэллочка Кравец станет филологом, это давно решено, а у Люды Надеждиной склонность к истории, она хочет стать историком, это тоже давно решено. — Пообещайте, Василий Петрович, что вы приедете когда-нибудь в Харьков, — сказала Бэллочка. — Мама переехала к сестре в Харьков, ведь мы до войны жили в Харькове, и я подала заявление в Харьковский университет. У мамы сохранился снимок, который сделал во время войны мой покойный отец: памятник основателю Харьковского университета Каразину, а на памятнике надпись мелом: "Проверено. Мин не обнаружено". Может быть, она хотела добавить: "Вот я и кончила школу, а папы нет, папа погиб на войне". — Что ж, возможно, и приеду к вам в Харьков, — сказал Василий Петрович. — Приеду, когда вы уже станете филологом. А вообще, мои девочки, я на вас обеих надеюсь… вы были у меня лучшие, я только никогда не говорил вам этого, чтобы вы не зазнавались. Бэллочка была черненькая, с персиковым, золотисторозовым румянцем, маленькая и складная, с тонким, нежным сердцем, а Люда была северянкой, она была высокая, со светлыми, почти пепельными волосами, и ее красивое лицо всегда было полно какого-то мелодического раздумья. Оно всегда было мелодическим, ее раздумье, и Василий Петрович, присматриваясь в школьные годы к ней, все больше утверждался в правильности своего, сразу пришедшего ему в голову сравнения: есть лица, которые звучат, как есть и лица, которые глухи, и не по сдержанности характера человека глухи, а потому, что неспособны звучать. — Вы музыку любите? — спросил он вдруг Люду Надеждину. — Да, — ответила она. — Почему вы спрашиваете об этом? — Потому что сегодня будет музыка, и вы уж, конечно, захотите потанцевать. Наверно, все, кто встречался по дороге, сразу же решали, что это идет учитель со своими ученицами, длинный и худой, с седеющей бородкой, и Василий Петрович вспоминал, что только несколько лет назад кружился и он со своими ученицами в прощальном вальсе, немножко церемонно, как учили танцевать в свое время, но все же уверенно вел в вальсе юное существо, довольное тем, что танцует с любимым учителем… и всегда хотелось думать, что это не просто почтительность, а он действительно сумел заслужить любовь. А потом было то, что бывало каждый год, и каждый раз по-новому, торжественно по-новому и трогательно по-новому, и счастливо по-новому: длинный стол, покрытый зеленым сукном, ученические адреса учителям и пожатия рук — молодых, сильных рук юношей и слабых рук девушек, лица матерей, вспоминающих свою молодость, нежность, тревога и слезы в их глазах, а затем, наконец, и трубы оркестра… И вот уже плывут впереди обнаженные девичьи плечи, и вчерашние мальчики почтительно кружат своих одноклассниц, которых еще недавно дразнили или те дразнили их, ссорились и мирились, помогали один другому и — что греха таить — случалось и списывали друг у друга, особенно на уроках по недающейся алгебре. За окнами между тем стало уже совсем сиренево, и вот он, Василий Петрович, как и другие учителя и учительницы, идет со своими бывшими учениками в глубину московских сумерек, трепетно в такие вечера наполненных молодостью, но не шумной, а притихшей. Все же это не только прощание со школой, но и встреча с неразведанным. И несмотря на то, что он нашел в кармане подсунутый женой металлический флакончик, Василий Петрович пообещал Люде Надеждиной, что покружится с ней в вальсе на Красной площади, она попросила об этом, и он пообещал ей. Но здесь, на Красной площади, были уже не десятки, и не сотни, а тысячи вчерашних школьников, и трубам оркестра можно было развернуться во всю ширь. — Ну, что ж, покружимся, — сказал Василий Петрович Люде Надеждиной, — покружимся с вами, будущий историк. А какую чудесную историю нашей страны предстоит вам изучать, небывалую по трудности, но небывалую и по своему величию!
— Мы немножко, — сказала Люда, — вам много нельзя, я знаю, но мы немножечко. Они стояли рядом и ждали, когда начнет оркестр. За стеной Кремля, в бледном желтовато-зеленом летнем небе висела дужка ущербной луны в последней ее четверти, Василий Петрович глядел на эту дужку, и вдруг тоска и ужас сжали его сердце, длинные холодные пальцы сжали его сердце. Там и тут, на фоне летнего неба, поднимались кверху округлые немые тела аэростатов, в городе не было ни единого огня, стекла окон мертво отражали небо, и было страшно, что светлая ночь выдает притаившийся город. Одинокие автомашины ползли на ощупь с незажженными фарами, лучи прожекторов поднялись вдруг, скрестились в небе, стали шарить по нему, металлический голос произнес из громкоговорителя: "Граждане! Воздушная тревога!", и где-то, как эхо, повторили другие громкоговорители, площадь была пуста, под светом луны голубовато блестела брусчатка мостовой, и возле мавзолея не темнели фигуры часовых, мавзолей был пуст, Ленина в нем не было… Семнадцать мальчиков, его, Василия Петровича, учеников, кончили школу в тот год, он пришел с ними на Красную площадь, и площадь шелестела по временам от шороха ног танцующих. Покружился в вальсе не с одной ученицей и он, Василий Петрович, у него тогда было еще здоровое сердце… А потом ходили по набережной Москвы-реки, ходили до самого рассвета, и уже всходило солнце, когда Василий Петрович вернулся домой, в его волосах и бороде были конфетти, и жена только покачала головой, когда он вернулся, — она покачала головой не потому, что осуждала его, а просто опасалась, что он не соразмерил сил и переутомился. Но у него было еще здоровое сердце тогда, он сказал лишь: "Не стоит ложиться спать. Будем пить чай. Завари только покрепче", и они сидели и пили чай, и по временам с его бородки падали в чашку кружочки синих или розовых конфетти. А три недели спустя его мальчики, его любимые Миша Стрельников, мечтавший стать конструктором, и Вася Жезлов, читавший наизусть Пушкина и Лермонтова, и Блока, и Юра Покотилов, который хотел стать славистом, и почти все другие мальчики — те, кто был здоров, — они уже воевали, и мрачные округлые тела аэростатов зловеще поднимались в летнем небе над Москвой… Только двое из того выпуска уцелели, он встречает их иногда, они считают себя уже ветеранами войны — этот некогда веселый, в веснушках, Котик Рябченко и Яша Цыгальницкий, у которого в Виннице убили всех родичей, а двух сестер с детьми угнали в Освенцим, и даже нельзя было узнать, когда они погибли… Стрелки часов на Спасской башне вращались в обратную сторону, они отсчитывали минувшие годы, и Василий Петрович видел, как они вращаются, то с бешеной скоростью, то медленно, и так же, то с силой, то замирая, билось его сердце… — Начинаем? — спросила Люда, и ее лилейная рука легла на его плечо. — Что с вами, Василий Петрович? Вам нехорошо? — Нет, — сказал он, — отчего же… Он только отвернулся на миг, чтобы Люда не заметила, как он кинул в рот таблетку, и вот оркестр заиграл густой, поборовший время вальс "На сопках Маньчжурии". — Все чудесно, Людочка, — сказал Василий Петрович кружась с ней, — пусть этот вечер останется навсегда в вашей памяти, только не называйте его прощальным, это все-таки встреча, а не прощание. — Он танцевал несколько старомодно, как его учили, и Люда Надеждина следовала за ним. — А то, что случилось тогда, никогда не повторится… ах, какие это были мальчики, какие замечательные люди получились бы из них — и из Юры Покотилова, и из Васи Жезлова, он сам писал стихи, это погиб поэт. Он говорил, но так тихо, что Люда не слышала его, она только танцевала с ним, будущий историк, и он покружился также и с Беллочкой Кравец, будущим филологом, и сказал ей: — Они, как и вы сегодня, входили тогда в жизнь, юноши и девушки, они тоже хотели стать историками и филологами, и инженерами, и писателями, может быть… Но, боже мой, что они увидели и узнали? Пустыню войны, ее кровь, ее немилосердие, ее низость, и они падали один за другим и уже не поднимались. Они были так же молоды, как и вы, так же верили в жизнь, как и вы, так же хотели счастья, как и вы. Им это не досталось, но они сделали все для того, чтобы это досталось вам, так берегите же это, не отдавайте это… а я буду с вами, ваш старый учитель, я буду с вами. Он говорил так, кружа ее, и она понимала все, что он сказал, хотя ничего не услышала. А после этого ходили по набережной, отдыхали на ее гранитном парапете, лодочка месяца плыла по воде и плясала по временам, когда проходил в огнях речной трамвайчик. Василий Петрович сидел на парапете, обняв худые колени своих длинных ног, смотрел на золотую лодочку в темной глубине воды и думал о том, что человек по своему назначению призван не расставаться, а только встречать, всегда встречать, каждый раз по-новому встречать… а той леденящей разлуке никогда не повториться! Он не сказал на этот раз жене, вернувшись на рассвете домой: "Не стоит ложиться спать. Будем пить чай. Завари только покрепче", — он не сказал этого, но жена тоже не спросила, не переутомился ли он, и не упрекнула за то, что он вернулся так поздно: она научилась все понимать за годы их совместной жизни, за минуты их радостей и за долгие часы горестей и утрат…