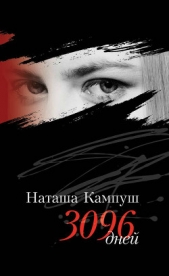Бомбы

Бомбы читать книгу онлайн
В настоящее издание входит рассказ А.К.Воронского о революционерах-подпольщиках и о борьбе за советскую власть в годы революции и гражданской воины.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Александр Воронский
БОМБЫ
Лес нерушимо хранил их тайну: они делали бомбы — Наташа и Анарх. Наташе исполнилось семнадцать лет, Анарх был на три года старше ее. У Наташи волосы рассыпались темными охапками, и ни гребенки, ни шпильки не могли с ними справиться. У Анарха волосы никак не рассыпались, а торчали коротким ежиком. К тому же он голову часто стриг, и тогда только отдельные, редкие кусты, второпях и по небрежности оставленные парикмахером, напоминали, что и Анарх не лишен растительности. Цвет этой растительности был неважный: не то русый, не то грязновато-соломенный. Наташа смотрела на мир преданными, любознательными глазами, и даже, когда Анарх обличал вселенную в подвохах и несправедливости, Наташа тщетно старалась потушить блеск своего взгляда и придать ему хотя бы самую малую скорбность. Во взгляде Анарха таились угрюмость и неприятие мира. Свойства эти скрывались молодостью, добротой, но в самом же деле Анарх смотрел исподлобья, хмурил брови и щипал их как бы даже с ожесточением. Брови эти, белесые, возникнув на почтительном расстоянии от переносицы, скромно пропадали, не возбуждая внимания. Брови Наташи, точно расписанные углем, уверенно бежали к ушам, да, да, к ушам, заставляя не одного молодца думать: «Ну и девка!» Лицо Наташи цвело тончайшим и благородным румянцем. Лицо Анарха никак не цвело, оно отдавало бледностью и желтоватыми пятнами. Нос Наташи утверждал себя в прямых, тонких и мягких линиях. Нос Анарха расплывался. Наташа говорила звучно, часто смеялась, пела песни. Анарх говорил мало, говорил хрипло, а подтягивая хору, путал себя и других и радости никому не приносил. Грудь Анарх имел скорее впалую, в то время как Наташа продолжала пересаживать пуговицы на лифчиках, делая это в скрытности. Анарх дышал больше животом, он, живот, и к пятидесяти годам вполне благополучной жизни не обещал весомости. Наташа дышала той самой грудью, для которой пересаживались пуговицы и спешно кроились новые лифчики, живот ее незначительно, но твердо округлялся. Анарх любил теорию, любил философию и психологию, тратил на книги последние заветные полтинники. Наташу философия не соблазняла, заветные полтинники она тратила на молоко, яйца, крупу и прочую докучную и презренную мелочь, дабы Анарх от рассеянности и углубленного восприятия космоса не оборвался до нитки и не помер бы с голоду. Жилось им все же нелегко, и нередко Наташа, глядя на Шопенгауэра, на Маркса и на Канта, вздыхала и про себя жалела, что их бесполезно поджаривать на сковородке, тушить и сдабривать приправой, в чем она, однако, никогда и ни за что не призналась бы непреклонному Анарху. Такие преступные и необыкновенные мысли посещали Наташу в моменты малодушия, когда исправником долго не выдавалось кормовых и одежных денег. Забыл с самого начала упомянуть, что и Анарх и Наташа жили в ссылке. Повстречались они в пересыльной тюрьме, в тюрьме и возникла их дружба. Не случись этой встречи в доме заключения, никогда, разумеется, скромные и тяжкие на подъем граждане города Яренска не видели бы этих опасных и решительных заговорщиков, шествующих с таинственным видом по болотистым и кочковатым улицам, числом не больше трех.
Почему друга Наташи называли Анархом? Скажем для успокоения, — по недоразумению. Сам себя Анарх считал большевиком, но прислушивался к революционным синдикалистам, впрочем, довольно умеренно и осторожно. За это некоторое его пристрастие ему и навязали кличку Анарха; против нее он сперва с горечью возражал и даже грозил кой-кому суковатой дубиной, выломанной им в таежных лесах края, но затем настолько смирился, что покорно даже отзывался на эту кличку.
Наташа считала себя социал-демократкой, не разбираясь в толках и направлениях, верила, однако, в террор, преклонялась пред Марией Спиридоновой и каждый раз про марксизм забывала, если какой-нибудь высокопревосходительство наглядно и на опыте доказывал бренность человеческого существования даже и на высоких постах и ту бесспорную истину, что людей подстерегают превратности и неожиданности. Не пренебрегала Наташа даже исправниками и урядниками, полагая, что чем их меньше, тем лучше. Наташа жила в городе, снимая угол за два рубля в месяц. Анарх выбрал себе комнату в деревне из пяти дворов, в полутора верстах от города. Деревенька хоронилась в лесу, уходившем в необъятность. Анарх предпочитал уединение и неторопливую тишину. Все же к обеду он все чаще и чаще отрывался от книг и начинал посматривать в окно, затянутое марлей от комаров. Предчувствие оправдывалось: на мостках через речонку Кижмолу показывалась темнокудрая Наташа. В руке она держала обычно учебники и узелок. Пока она неуверенно ступала по шатким и узким доскам, держась за тонкие жердины перил, Анарх поспешно обдергивал косоворотку, приглаживал волосы, если они были, и даже заглядывал в зеркальце, почитая этот свой поступок подлейшим мещанством и изменой основам. Он очень боялся, чтобы Наташа не увидала его перед зеркалом, старательно запрятывал его меж книгами, упрекая себя в ничтожествах и несколько воровски косясь на дверь.
В комнату входила Наташа, Анарх глупел. Будь Анарх поэтом, он сравнил бы приход Наташи с появлением непорочной утренней зари, но Анарх поэзию отрицал бесповоротно, находя занятие ею предосудительным и расслабляющим. Мы тоже с своей стороны на этом сравнении не настаиваем, потому что знатоки и критики утверждают, что оно старомодно и отштамповано и будто к таким уподоблениям могут прибегать лишь люди неопытные и даже едва ли подающие какие-нибудь надежды. Пусть будет так: с критиками и знатоками мы уже давно не ратоборствуем и войн, ни малых, ни великих, не ведем. Ограничимся указанием, что Анарху при виде Наташи хотелось бессмысленно и дурацки улыбаться, но улыбку свою он беспощадно подавлял в себе, доводя лицо до выражения почти свирепого.
Анарх глупел. Наташа всегда несколько задерживалась на пороге, осматривала комнату мимолетным взглядом, останавливая его на Анархе. Анарх никогда не мог долго выносить этот взгляд: глаза его в это время блуждали, он кашлял громче обычного, либо прибирал тетради на столе.
Развязывая узелок, Наташа говорила:
— Я принесла вам сегодня котлеты с гречневой кашей. Вку-усные.
Анарх, не удостоив узелок благосклонности, отвечал:
— Это не важно.
— Нужно пойти к Анне Михайловне разогреть их.
Анна Михайловна, однорукая старушка с темным лицом и платком, надвинутым на глаза, очень приветливая и обходительная, была хозяйка Анарха.
— Это не важно, — снова и на этот раз более громко заявлял Анарх. — Можно и холодными поесть.
Больше всего Анарх не хотел выдать себя. Вчера он лег без ужина, утром пил жидкий чай с куском черствой шаньги. Анарх делал судорожное движение горлом и отворачивал нос, до которого доносился запах мяса, масла, поджаренной каши, лука и чеснока. Наташа обиженно и строптиво возражала:
— Нет, вы уже лучше подождите. Котлеты и кашу надо разогреть.
— Я совсем не голоден, — твердокаменно заверял Анарх, впадая в еще большую мрачность не то оттого, что считал себя разоблаченным в тайных намерениях сесть сейчас же за стол, не то оттого, что приходилось ждать, не то от причин совместных.
Наташа уходила к хозяйке. Анарх шагал по комнате, неистово стуча каблуками, скрипя половицами, глубоко и часто затягиваясь табачным дешевым дымом.
Они обедали. Наташа садилась против Анарха, выбирала и подкладывала ему любимые куски, сама ела мало и, когда ела, держала мизинец правой руки на отлете, глотки делала маленькие. Около ее тарелки каша не рассыпалась, не валялись ни корки, ни крошки. Анарх ел рассеянно, плохо прожевывал пищу, ничего не оставляя на тарелке. Сперва он не обращал внимания, что скатерть на его стороне украшалась жирными пятнами, объедками и огрызками и больше походила на поле сражения из «Руслана и Людмилы», но мало-помалу Анарх поддался воспитательному воздействию Наташи. Мизинец на отлете он, конечно, безоговорочно осуждал, как прямое и сомнительное наследство далеко не пролетарского прошлого Наташи, дочери инженера и даже словно бы дворянина. К сведению прибавим, что Анарх имел родословную более народную, был сыном дьячка, сиротой и бурсаком, уволенным из семинарии за бунт и дебош с членовредительством воспитателей. Заполняй Анарх анкету в наше время, славы он, разумеется, не стяжал бы, но в то время преимущества его над Наташей были несомненны… Итак, мизинец он осуждал, но научился без трудов и усилий соблюдать во время обедов благопристойность, пожалуй, даже вполне сносную.