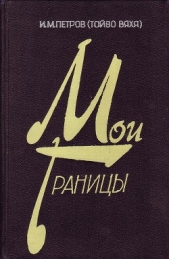Воспоминания
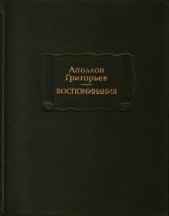
Воспоминания читать книгу онлайн
Ап. Григорьев хорошо известен любителю русской литературы как поэт и как критик, но почти совершенно не знаком в качестве прозаика.
Между тем он — автор самобытных воспоминаний, страстных исповедных дневников и писем, романтических рассказов, художественных очерков.
Собранное вместе, его прозаическое наследие создает представление о талантливом художнике, включившем в свой метод и стиль достижения великих предшественников и современников на поприще литературы, но всегда остававшемся оригинальным, ни на кого не похожим.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Довольны ли вы теперь! — быстро вскричала Лидия, поднимая на него глаза… — Я люблю вас.
— Лидия.
— Постойте, — перервала она его с усилием, — постойте… не говорите ничего… я вас знаю… вы уморили Воловскую… не возражайте, я это знаю… я этому верю… вы любить не можете, ваша любовь — смерть.
— И жизнь, Лидия, — улыбаясь, сказал Званинцев, отстегивая полог саней и внося на руках по лестнице девочку, которая в забытьи обвила своими руками его шею.
Он отпер дверь, потому что не имел никогда привычки, возвращаясь, поздно домой, будить своих людей. Он внес Лидию в свой кабинет и, тихо, бережно сложивши ее на турецкий диван, зажег лампу; ничто не изменяло неподвижному, беспечному спокойствию его физиономии, и лампа осветила перед Лидиею тот же прекрасный, величавый мужской образ. Она трепетала, как в лихорадке, бедная девочка, но глаза ее, облитые влагою, не могли оторваться от Званинцева.
Он взял маленький табурет и сел подле нее.
— Лидия, — начал он, гладя на своей руке ее маленькую руку, — вы сказали слово, которое должно решить навсегда вашу и мою участь. Слушайте же меня.
— Я вас слушаю, — шепнула она, тщетно силясь оторваться от него глазами.
— Воловская умерла, потому что она не могла жить, — сказал он твердо и грустно, — я ее любил, но и на нее даже смотрел я как на камень: выдержит обделку — хорошо, не выдержит — что делать!
Лидия провела рукою по лбу.
— Во всем и везде я хочу правды, — продолжал Званинцев с невозмутимым спокойствием, — любовь и женщина — самые лучшие вещи на свете, — это мой единственный интерес, потому что другим мне нечем заняться… но я не хочу никогда, чтобы раскаивались в любви ко мне… Для этого — я говорю вещи прямо и сам не терплю полупризнаний, полупреданности.
Лидия с ужасом закрыла лицо руками, вырвавши с усилием свои пальцы из рук Званинцева.
— Не бойтесь, Лидия, — сказал Званинцев улыбаясь, — не бойтесь, вы в безопасности до тех пор, пока сами не предались мне… Вы еще не в моей власти.
Лидия приподнялась и судорожно сжала руку Званинцева.
— Я вам сказал, — продолжал он, — что я отвезу вас к тетке!..
— Нет, нет, — сказала она с замирающим шепотом страсти, обвивая его шею и безумно-нежно смотря ему в глаза… — Я погибла, я навсегда погибла… но я от вас не отстану, я от тебя не отстану, мой милый… слышишь ли ты это?
И она в беспамятстве упала в его объятия.
Званинцев взял флакон eau de Cologne [142] и опрыскал ей лицо освежающею влагою… она снова пришла в себя, и снова пробудившееся чувство стыда заставило ее склониться лицом к подушке дивана.
— Повторяю вам, что я не хочу увлечения, — сказал ей Званинцев, — свободно, разумно должна предаваться женщина, если она хочет только быть равной мужчине.
— Вы меня не любите, — глухо рыдала Лидия.
— Я могу любить только равное себе, дитя мое, — отвечал Званинцев. — Вы увлечены теперь, я вам явился романтическим героем-избавителем, а что, если бы я сказал вам, что все это — только заранее подготовленная сцена?..
— Все равно, — вскричала девочка, — я люблю вас.
— Что я по крайней мере предвидел вашу судьбу и свою роль.
— Я люблю вас.
— Что я был уверен в том, что вы меня будете любить, с первой нашей встречи.
— Званинцев!..
— Что я сказал себе: она должна быть моей рабою.
Лидия быстро вскочила с дивана и стала перед ним бледная, трепещущая.
— Что я знаю это, — продолжал Званинцев с бесконечною нежностью.
— Он меня любит! — вскричала девушка, падая к его ногам и скрывая свою голову на груди Званинцева.
— Да, я тебя люблю, мой светлый ангел, — сказал он, страстно сжимая ее в объятиях… — Я тебя люблю, потому что я тебя создал, — продолжал он, сажая ее снова на диван и склоняясь головой к ее коленам… — Ты видишь, я у ног твоих, ты видишь, я твой раб, моя сестра, моя подруга… Лидия, Лидия, — говорил он, увлекаясь все более, — путь мой кончен, эта минута — вечность, эта гордость, которой я теперь полон — целый мир, необъятный мир блаженства: я могу наконец, не стыдясь самого себя, обливать слезами твои руки, твои ноги, дитя мое, могу предаваться всем безумствам страсти… Мой ангел, моя подруга — еще раз скажи мне, что…
— Что я отрекаюсь от всего, — сказала Лидия страстным шепотом, — что в твоей любви целое небо, что иного я не хочу…
— На жизнь и на смерть, — сказал Званинцев, взявши ее руку напечатлевая поцелуй на ее устах . . . . . . . . . .
Читатели мои ждут, вероятно, кровавой развязки, — но, по долгу повествователя, я обязан сказать им, что о дуэли и в помине не было. Севского убедила его матушка, что все это случилось к его счастию.
О Званинцеве и Лидии нет ни слуху ни духу. Они уехали из Петербурга.
Севский где-то уже столоначальником.
«Роберт-дьявол» *
Я жил еще в Москве, я был молод, я был влюблен.
Конечно, моим читателям вовсе не нужно было бы знать ничего этого но, со времени признаний Руссо *, люди вообще постепенно усовершенствовались в цинической откровенности, и не знаю, от каких подробно стен домашней и внутренней жизни пощадит человечество любой из со временных писателей, если только, по его расчету, эти подробности раз меняются на звонкую или ассигнационную монету… И он будет прав разумеется, как прав капиталист, который не любит лежачих капиталов даже более, чем капиталист, потому что всякая прожитая полоса жизни достается потом и кровию, в истинном смысле этого слова — и, по пословице «с дурной собаки хоть шерсти клок», что же, кроме денег, прикажете вы брать с общества за те бесчисленные удовольствия разубеждений, которыми оно так щедро дарит на каждом шагу?.. Да, милостивые государи! в наше время личный эгоизм нисколько не сжимается, il se gene le moins du monde, [143] напротив, он нагло выдвигается вперед, как бы мелочен он ни был; он хочет, во что бы то ни стало, сделаться заметным, хоть своею мелочностью: оттого-то в наше время, богатое страданием стало даже смешно и пошло говорить о страдании, оттого-то болезненная борьба заменилась цинически-презрительным равнодушием, и слово «высокое чело» обратилось в другое слово, более выразительное, и это — извините пожалуйста — «медный лоб». Иметь медный лоб — вот высокая цель современного эгоизма, хоть, конечно, не многие еще прямо говорят об этой цели. Хороша ли, дурна ли эта цель — судить не мне, да и не вам, милостивые государи, а конечно только Тому, пред очами Которого длинной цепью проходят мириады миров и века за веками, каждый с своим особым назначением, с своим новым делом любви и спасения…
«Возвратимся к нашим барашкам», т. е. к тому, что я жил еще в Москве, что я был молод и влюблен — и это будет истинное возвращение к пасущемуся состоянию, ко временам счастливой Аркадии, к тем славным временам для каждого из нас, когда общественные условия незаставили еще нас отрастить когти и не обратили в плотоядных животных. Здесь, a propos de bottes, [144] никак не могу я удержаться и не заметить в скобках, что каждый из мирного, пасущегося, домашнего животного делается, смотря по своим природным наклонностям, медведем или волком; медведи обыкновенно очень добры, и только бы их не трогали, лежат себе смирно в своей берлоге, думая по-своему о превратностях мира сего, — волки же, как известно, нигде не уживаются.
Итак, я был еще мирным, домашним животным, тем, собственно, что, на грубом техническом языке скотных дворов называется сосунком, а на учтивом общественном — примерным сыном и прекрасным молодым человеком, — хотя чувствовал сильное поползновение отрастить когти….