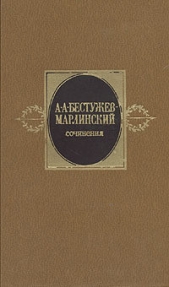Сочинения. Том 2
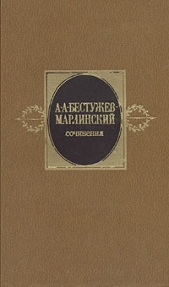
Сочинения. Том 2 читать книгу онлайн
А. А. Бестужев-Марлинский — видный поэт, прозаик, публицист первой трети XIX века, участник декабристского движения, член Северного тайного общества. Его творчество является ярким образцом революционного романтизма декабристов. В настоящее издание вошли наиболее значительные художественные и публицистические произведения Бестужева, а также избранные письма.
Во втором томе «Сочинений» напечатаны повести «Фрегат „Надежда“», «Мореход Никитин» и др., очерки «Письма из Дагестана», избранные стихотворения, литературно-критические статьи и избранные письма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Да-с! Когда вздумаешь, что русский мужичок-промышленник, мореход, на какой-нибудь щепке, на шитике, на карбасе, в кожаной байдаре, без компаса, без карт, с ломтем хлеба в кармане, плавал, хаживал на Грумант, — так зовут они Новую Землю, — в Камчатку из Охотска, в Америку из Камчатки, так сердце смеется, а по коже мурашки бегают. Около света опоясать? Копейка! Послушайте, как он говорит про свои странствия, про которые бы французы и англичане и в песнях не напелись, и в колокола не назвонились, и вы убедитесь, что труды и опасности для него игрушка. «Забрались мы к Гебрицким да оттуда на перевал в Бразилию, в золотое царство махнули. Из Бразилии перетолкнулисъ в Камчатку, а оттоль ведь на Ситку-то рукой подать!» Вот этаких удальцов подавай мне, — и с ними хоть за живой водой посылай! Океан встрелся? Океан шапками вычерпаем! Песчаное море? Как тавлинку, вынюхаем! Ледяные горы? Вместо леденца сгрызем! Где ж это сударыня Невозможность запропастилась? Выходи, — авось на подметки нам пригодится! Под кем добрый конь авось-масти, тому лес не лес, река не река: куда ни поскачут — дорога, где ни обернется — простор. На кита? — так на кита — экая невидаль! Зубочисткой заострожим! На белого медведя? щелком убьем; а в красный час и лукавый под руку не подвертывайся. Нам уже не впервые на зубах у него гвозди ковать, в нос колечко вдевать. Правду сказать, русак тяжел на подъем; раскачать его трудно; зато уж как пойдет, так в самоходах не догонишь. Куда лениво говорит он первое «ась?». Но когда после многих: «Да на что мне это! Да к чему мне это! Живем и так; как-нибудь промаячим!» — доберется он до «нешто, попытаем!» да «авось сделаем», так раздайтесь, расступитесь: стопчет и поминай как звали! Он вам перехитрит всякого немца на кафедре, разобьет француза в поле и умудрится на заводе лучше любого англичанина. Не верите? Окунитесь только в нашу словесность, решитесь прочесть с начала до конца пламенные статьи о бессмертных часах с кукушкою, о влиянии родимых макаронов на нравственность и о воспитании виргинского табаку, статьи столь пламенные, что их невозможно читать без пожарного камзола из асбеста, — и вы убедитесь, что литературные гении — самотесы на Руси так же обыкновенны, как сушеные грибы в великий пост, что мы ученее ученых, ибо доведались, что науки вздор; что пишем мы благонравнее всей Европы, ибо в сочинениях наших никого не убивают, кроме здравого смысла.
Но к делу. В 1811 году еще ни один пароход не пугал своими шумными колесами рыбный народ в реках русских, и потому двинские рыбки безбоязненно высовывали головки свои, чтобы полюбоваться на вороной как смоль карбас и тех, которые им правили. Вот физиологические подробности, полученные мною от одной из очевидиц, щук: несмотря на архангелогородскую соль и непривычное ей путешествие в розвальнях, слог этой щуки так цветист, как будто бы она кушала сочинителей всех темных, пестрых и голубых сказок; должно думать, что предметы, отражаясь в тысяче граней рыбьих глаз, производят необыкновенное разнообразие впечатлений в их мозге; образчик прилагается в подлиннике.
Река, — рыбы всегда начинают речь с своего отечества, с своей стихии: благоразумные рыбы! в этом они нисколько не следуют сосцепитательным сочинителям, которые всего более любят говорить о том, что они знают наименее, — река чуть струилась; корабль катился быстро, напутствуемый теченьем и ветром; пологие берега незаметно текли мимо его, и если б кой-где стоящие на якорях суда не оказывали бега судна как поверстные столбы, то пловцы в карбасе могли бы подумать, что они неподвижны: столь однообразно-пусты, так безмолвно-мертвы были окрестные тундры. Тогда еще не видно было на берегах Двины сахарных и канатных заводов, и ни одна верфь не готовила бросить в воду юных скелетов корабельных, еще не одетых дубовою плотью. На всем пространстве от Соломбола до устья не встретилось им ни одной живой души, хотя разноцветный мох подернут был оранжевою ягодой морошки…
— Отличное противоскорбутное средство! — замечает мой приятель, медик. — Природа помещает всегда противуядие вблизи яда; как мне известно, морошка составляет теперь отрасль торговли Придвинского края: ее для английского флота вывозят тысячами сороковых бочек.
…Морошки, раскинутой причудливыми узорами, подобно фате северной красавицы…
— Лучше бы сказать, подобно русскому ситцу, — говорит один женатый помещик, — потому что русские ситцы-самоделки точь-в-точь морошка по болоту.
Рыба сморкает нос и продолжает:
Только одинокий журавль, царь пустыни, бродил там, как ученый по части зоологии…
Он, — то есть журавль, а не ученый, — втыкал нос в мутную воду, в жидкий ил и, вытащив оттуда какого-нибудь червячка или пескаря, гордо подымал голову. Оглянувшись на карбас, он рассчитал глазомерно расстояние и, уверившись, что находится вне выстрела, погнался за резвою лягушкою, беспечно кивая хвостиком. Он нашел лягушку гораздо занимательней людей.
И справедливо: барон Брамбеус хоть вовсе не похож на журавля, а чуть ли не того же мнения. «Лягушек не лягушек, — скажет он, — а что устриц я всегда предпочту людям! Во-первых, древность происхождения устриц глубже всякой летописи и несомненнее Несторовой, так что сам барон Кювье не отыскал пятна в их предпотопной генеалогии; во-вторых, они постояннее китайцев в своих мнениях: родятся себе и умирают у скалы, к которой приросли, и с доброй воли не делают фантастических путешествий; и, в-третьих, не заводят в старом море юной литературы».
Судя по хладнокровию, или, лучше сказать, по беспечности, с какою четверо мореходцев, составлявших экипаж карбаса, пускались в шумный бурун, образованный борьбою речной воды с напором возникающего прилива, их можно было бы зачислить в варяжскую дружину, не подводя под рекрутскую меру. На руле сидел здоровый молодец лет двадцати семи: волосы в кружок, усы в скобку, и бородка чуть-чуть закудрявилась, на щеках румянец, обещавший не слинять до шестидесяти лет, с улыбкой, которая не упорхнула бы ни от девятого вала, ни от сам-девять сатаны, — одним словом, лицо вместе сметливое и простодушное, беззаботное и решительное; физиономия настоящая северная, русская.
По одежде он принадлежал к переходным породам. На голове английская пуховая шляпа, на теле суконный жилет с серебряными пуговицами; зато красная рубашка спускалась по-русски на китайчатые шаровары, а сапоги, по моде, сохранившейся у нас со времен Куликовской битвы, загибали свои острые носки кверху. По самодовольным взглядам, которые бросал наш рулевой на изобретенный им топсель, вздернутый сверх рейкового паруса, он принадлежал к школе нововводителей. У средней мачты, в парусинной куртке и в таких же брюках, просмоленных до непроницаемости, сидел старик лет за пятьдесят, у которого благословенная бородища была в явном разладе с кургузым матросским платьем: явление странное всегда и нередкое до сих пор. Издавна ходил он по морям на кораблях купца Брандта и компании, но напрасно уговаривали его хозяева обрить бороду. Ураганы могли теребить ее, море вцеплять в нее свои ракушки, вкраплять соляные кристаллы, случай заедать в блок или в захлест каната, но владетель ее был непоколебим ни насмешками юнгов, ни ударами судьбы. Он не возлагал даже на нее постризала, и она в природной красе, во весь рост расстилалась по груди и по плечам упрямца. Дядя Яков, так звали этого чудака, сидел на бочонке русского элемента, квасу, и сплеснивал, то есть стращивал, веревку. У ног его почти лежал молодой парень лет двадцати, упершись ногою в борт и придерживая руками шкот, угловую веревку паруса. По его свежему лицу, по округлым, еще не изломанным опытностию чертам, по любопытству, с каким поводил он вкруг глазами, даже по неловкости его, больше чем по покрою кафтана, можно было удостовериться, что он не просоленный моряк, новобранец, только что из села.
На носовом помосте лежал ничком, свеся голову за борт, коренастый мореход с физиономией, какие отливает природа тысячами для вседневного расхода. Не на что было повесить на ней никакого чувства, а мысль, будь она кована хоть на все четыре ноги, не удержалась бы на гладком его лбу. Он поплевывал в воду и любовался, как струя уносила изображение его жизни, и потом запевал: «Ох, не одна! Эх, не одна!» — и опять поплевывал. Он принадлежал к бесконечному ряду практических философов, которые разрешают жизнь самым безмятежным образом, — работать, когда нужно, спать, когда можно.