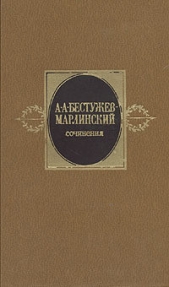Сочинения. Том 2
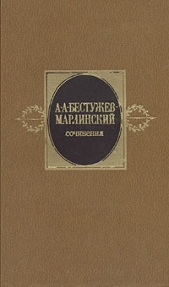
Сочинения. Том 2 читать книгу онлайн
А. А. Бестужев-Марлинский — видный поэт, прозаик, публицист первой трети XIX века, участник декабристского движения, член Северного тайного общества. Его творчество является ярким образцом революционного романтизма декабристов. В настоящее издание вошли наиболее значительные художественные и публицистические произведения Бестужева, а также избранные письма.
Во втором томе «Сочинений» напечатаны повести «Фрегат „Надежда“», «Мореход Никитин» и др., очерки «Письма из Дагестана», избранные стихотворения, литературно-критические статьи и избранные письма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— С полчаса назад; он потерял много крови, — проклятый гвоздь с изломанной доски шлюпки глубоко вонзился ему между ребрами; я насилу мог остановить кровотечение. Однако теперь горячка стихла, и он вообще больше болен духом, чем телом: affection mentals [151]. Он, видите, нервозного сложения: на него крепко подействовало повреждение фрегата и гибель людей. Если бы нам, медикам, случалось приходить в отчаяние от ошибок, так пришлось бы задавиться турникетом после первого дежурства в клинике.
— Слава Богу, доктор, что добрые люди не вдруг привыкают к чужой гибели, притом кроме худой славы перед своими и англичанами немудрено, что капитан наш поплатится за свою прогулку эполетами.
— Неужели ж его отдадут под суд за мачту?..
— Да, Стеллинский! Не дай Бог попасться под военный суд: это хуже вашего консилиума, — и между тем это вероятно. Государь, правда, лично знает Правина и после наваринского дела сам назначил его командиром фрегата; начальство уважает его, но сами вы знаете, что служба ни шутить, ни лицеприятничать не любит.
— Да, да! это будет невозвратная потеря для флота!
— Впрочем, делайте вы свое дело, а мы, офицеры, обработаем свое. Разве нельзя три четверти вины пустить на ветер? С бурями, так же как с вашими болезнями, все шито да крыто.
— Дай Бог, дай Бог!
Лекарь вошел в капитанскую каюту.
Кто бы узнал в этом бледном, изможденном страданиями теле вчерашнего Правина, цветущего здоровьем, кипящего надеждою? Расшибленная голова его была обвязана полотенцем, лицо мерцало могильною белизною, зрачки не двигались в глазах, охваченных синим кругом, — они лишь расширялись и сжимались повременно. Подперши левою рукою голову, правой держал он за руку Нила Павловича, который сидел у него на кровати и с ним разговаривал. У обоих остатки слез дрожали на щеках.
— Нилушка! не оправдывай меня; отлив крови — прилив рассудка: я вижу теперь, что во всем виноват сам, — один я буду и в ответе. Не арестуй я тебя, мы не потеряли бы ни одного лисель-спирта. Не вини Стрелкина: он молодой офицер, он новичок-лейтенант, и если спустился под шквалом на фордевинд, не убравшись даже с ундерзейлями, — это оттого, что он никогда не бывал в подобных обстоятельствах…
— Впрочем, — сказал ласково Нил Павлович, — все зависит от того, в каком виде представим дело начальству.
— Неужели ты думаешь, друг мой, что я стану лгать в извинение? Ни в чем, никогда! Завтра же рапортую о несчастном случае императору и Адмиралтейству — и все, как было, все без утайки. Ты простил меня, — может статься, накажет слегка и начальство; но могу ли я простить самому себе — успокоить совесть за смерть людей!
— Грот-марса-рей сорвался случайно. Второпях, в потемках один урядник отдал топенант вместо грот-стенг-стаксель-фала, и люди полетели долой. Это могло случится и при тебе.
— Я уверен, что ни при мне, ни при тебе не было бы суматохи, не было бы и торопливости… А гребцы мои, а?.. — Правин вздернул одеяло на лицо и несколько минут безмолвствовал. Только содрогание одеяла доказывало, что он под властью ужасного чувства. Наконец он открылся. — Нил, тебе известно все, — сказал он, — были проступки и в прежней жизни моей, но я бы отдал смерти половину дней, назначенных мне жить, и посвятил бы остальную на благодарность Богу, если б можно было вычеркнуть из бытия последние двадцать четыре часа…
— И я, преступник, — вскричал он, помолчав с минуту и потом подымаясь на ложе, — я, который играл царскою доверенностию, который обольстил, погубил любимую женщину, обидел друга, запятнал русский флот, утопил шестнадцать человек, для насыщения своей прихоти, — и я-то думаю жить! Нет! Я не переживу ни своей чести, ни своей души; я не хочу, я не должен существовать. Море взлелеяло меня, море дало мне свои бурные страсти — пускай же море и поглотит их: только в бездне его найду я покой! Если суждены мне муки за гробом, то пусть мучусь вне тела, без сердца, одной душою!.. Это уж выигрыш!.. Смерть, ты улыбнешься мне, как Вера… Приди, приди!
Он страшно восклицал, он жадно простирал руки к какому-то незримому предмету, он был в исступлении.
— Горячка снова им овладела, — сказал на ухо Нилу Павловичу лекарь, — надо употребить утишающие средства, и завтра же будет mens sana in cor pore sano [152].
Он заботливо уложил больного.
Нил Павлович вышел наверх отдохнуть от сильных впечатлений. Солнце садилось. Били вечернюю зорю; оба флага скатились тихо, тихо долой; ночь ниспадала прозрачна и мирна, но все было мутно в возмущенной душе доброго моряка. Участь друга свинцом налегла на сердце.
«Дорогою ценой платите вы, баловни природы, за свой ум, за свои тонкие чувства! — подумал он. — Высоки ваши наслаждения, зато как остры, как разнообразны ваши страдания!! У вас сердце — телескоп, увеличивающий все до гигантского размера. О, кто бы, глядя на Правина, не пожелал быть глупцом, всегда довольным собою, или бесчувственным камнем, ничего не терпящим от других!»
В полночь Нил Павлович потихоньку вошел в каюту капитана… На столе подле постели лежало недоконченное письмо; казалось, Правин недавно писал — чернила еще блестели на пере, на бумаге не засохли две капли крови, упавшей, вероятно, с оцарапанного лица. Сам он спокойно лежал, закрывшись весь одеялом. Рука друга подняла покров, заботливый взор его упал на лицо больного: он, казалось, спал глубоким сном. Румянец играл на щеках, но выражение бровей было болезненно; страдание смыкало уста.
«Он и во сне страждет», — сказал про себя Нил Павлович и на цыпочках вышел вон.
— Слава Богу, капитану лучше, — сказал он матросам, которые с участием толпились у дверей каюты… и они рассеялись, и по палубам пролетела шепотом отрадная весть: капитану лучше.
Ему в самом деле было лучше.
IX
С минуты разлуки княгиня не отходила от окна. Солнце село, солнце взошло, солнце перекатилось за полдень — она все сидела с тоскою в сердце, с зрительною трубою в руке, она все глядела на фрегат, в коем, не для игры слов, заключалась вся ее надежда. Она видела, как на нем исправлялось, очищалось, приходило в порядок все. Долгое наблюдение сквозь телескоп производит не только в глазу, но и в воображении какое-то странное чувство. Отдаленность с своею немою, но живою игрой людей и предметов, кажется, будто принадлежит иному свету. Смотришь на них как в тени, хочешь угадать их речи, их думы, их заботы по движениям, — внимаешь очами, и любопытство растет до горячего участия.
Часу в пятом вечера княгиня заметила необыкновенное, но стройное движение на фрегате. Матросы унизали борт корабля; что-то красное мелькнуло с борта в воду, и вслед за тем сверкнул огонь из пушки, из другой, из третьей… Гул раздался долго после!.. Потом флаг, который до сих пор спущен был до половины и перевязан узлом, упал — ив тот же миг поднялся до места распущенный… И потом звук исчез в пространстве, дым улетел к небу и все приняло прежний вид.
Это непостижимое для Веры явление мелькнуло в стекле трубки будто в неясном, худо запомненном сне. Княгиня протерла стекло, но все задернулось туманом в очах ее, и с них брызнули слезы. «Это от усталости!» — молвила она и в думе опустила голову на руку. Невольная дрожь пробежала по ее телу. «Какой холодный ветер!» — подумала она и закуталась шалью… Наконец неизъяснимая тоска сжала ей грудь… Она с горестию сказала: «Видно, он не придет и сегодня!» Но в голосе ее слышалась обманутая, хотя еще не разрушенная, надежда — какая-то слепая доверчивость ребенка к палачу. О, эти простые слова привели бы в трепет каждого, кто угадывал истину. Сегодня? Но вечереет ли день замогильный? рассветает ли ночь мертвецов?
И княгиня погрузилась в долгое тяжелое забытье; забытье без чувств и мыслей; забытье, в котором, как в Мертвом море, нет ни зыби, ни прилива, ни отлива, не витают рыбы, не перелетают через птицы… все иссушено, все задушено!! Словом, забытье, которое потому только не могло назваться смертью, что оно хранило муку.