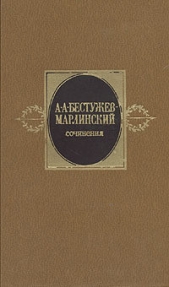Сочинения. Том 2
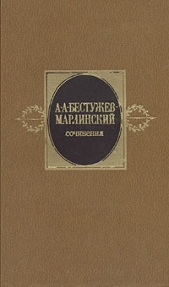
Сочинения. Том 2 читать книгу онлайн
А. А. Бестужев-Марлинский — видный поэт, прозаик, публицист первой трети XIX века, участник декабристского движения, член Северного тайного общества. Его творчество является ярким образцом революционного романтизма декабристов. В настоящее издание вошли наиболее значительные художественные и публицистические произведения Бестужева, а также избранные письма.
Во втором томе «Сочинений» напечатаны повести «Фрегат „Надежда“», «Мореход Никитин» и др., очерки «Письма из Дагестана», избранные стихотворения, литературно-критические статьи и избранные письма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Что, Алексей, — спросил новобранца Савелий, усмехаясь, — аль тебе не любы крестины морскою водою?
— Хороши, — отвечал Алексей, вытирая лицо, — только без каши и крестины не в крестины.
— Погоди, брат Алеша, мы тебя в соленой купели выкупаем. Тогда уж с веслом и за кашу посадим тебя, — помеси да и в рот понеси, — кушай да похваливай. Захочешь ли брат — брага у нас шипучка; зелено вино с пенкой некупленые, немереные — пей сколько в душу войдет.
— Спасибо на ласке! Подноси сперва старшим, дядюшка, — лукаво отвечал Алексей.
— Ты в море гость, мы хозяева, — сказал Савелий, — а гостей потчуют не по летам.
— Однако, — молвил дядя Яков, оглядывая в дозор небосклон, — не придержать ли нам на вечер-то вдоль берега? Что-то очень парит: словно пыль пылит над тундрою. Подымется, не ровен час, разыграй-царевич — так и нам в открытом море без беды беда придет.
— Волка бояться — в лес не ходить, дядя Яков! — возразил Савелий. Ветер, словно клад, не во всякую пору дается: упустим его — так трудно будет на него карабкаться после. А когда теперь на норд-норд-вест заберемся, так уж по ветер-то как по маслу скатим в Соловки, когда вздумается. Небо чисто.
— Нешто! — сказал дядя Яков и принялся доплетать узел веревки.
— Вестимо, так! — сказал Алексей, как будто что-нибудь понял, и принялся зевать в обоих значениях этого слова. Иван не рассуждал и не говорил: он поплевывал в море. Савелий по привилегии, данной всем людям, у которых звенит что-нибудь в голове или в кармане, строил воздушные за́мки. Карбас, пятое действие нашей драмы, покачиваясь с боку на бок, изволил плыть да плыть в необъятное море.
День шел в гости к вечеру. Прибрежье никло; островок Мудюг, стоящий на часах у входа в Двину, окунывался, и опять выглядывал, и опять окунывался в воду. Скоро земля слилась в темную полосу, в черту, едва видную; вал заплеснул и эту черту, — прощай, моя родина! Бездонное небо, безбрежное море обнимает теперь утлое судно. Только вольный ветер да рыскучие волны напевают ему в лад свою вечную, непонятную песню, возбуждая думы неясные о том, что было и что будет, о том, чего никогда не было и никогда не будет.
Не знаю, случалось ли вам испытать чувство разлуки с родным берегом на веру зыбкой стихии. Но я испытал его сам; я следил его на людях с высоко-настроенною организациею и на людях самых необразованных, намозоленных привычкою. Когда почувствуешь, что якорь отделился от земли, мнится, что развязывается узел, крепивший сердце с землею, что лопает струна этого сердца. Груди становится больно и легко невообразимо!.. Корабль бросается в бег; над головой вьются морские птицы, в голове роятся воспоминания, они одни, гонцы неутомимые, несут вести кораблю о земле, им покинутой, душе — о былом невозвратном. Но тонет и последняя альциона в пучине дали, последняя поминка в душе. Новый мир начинает поглощать ее. Тогда-то овладевает человеком грусть неизъяснимая, грусть уже неземная, не земляная, но еще и не вовсе небесная, словно отклик двух миров, двух существований, развитие бесконечного из почек ограниченного, чувство, не сжимающее, а расширяющее сердце, чувство разъединения с человечеством и слияния с природою. Я уверен, оно есть задаток перехода нашего из времени в вечность, диез из октавы кончины.
И неслышно природа своей бальзамическою рукою стирает с сердца глубокие, ноющие рубцы огорчений, вынимает занозы раскаяния, отвевает прочь думы-смутницы. Оно яснеет, хрусталеет, — как будто лучи солнца, отразясь о поверхность океана и пронзая чувства во всех направлениях, передают сердцу свою прозрачность и блеск, обращают его в звезду утреннюю. Вы начинаете тогда разгадывать вероятность мнения, что вещество есть свет, поглощенный тяжестию, а мысль, нравственное солнце, духовное око человека, сосредоточивая в себе мир, есть вещество, стремящееся обратиться опять в свет посредством слова. Тогда душа пьет волю полною чашею неба, купается в раздолье океана, и человек превращается весь в чистое, безмятежное, святое чувство самозабвения и мироневедения, как младенец, сейчас вынутый из купели и дремлющий на зыби материнской груди, согретый ее дыханием, улелеянный ее песнью. О, если б я мог вымолить у судьбы или обновить до жизни памятью несколько подобных часов! — я бы…
«Я бы тогда вовсе не стал читать ваших рассказов», — говорит мне с досадою один из тех читателей, которые непременно хотят, чтоб герой повести беспрестанно и бессменно плясал перед ними на канате. Случись ему хоть на миг вывернуться, они и давай заглядывать за кулисы, забегать через главу: «Да где ж он? Да что с ним сталось? Да не убился ли он, не убит ли он, не пропал ли без вести?» Или, что того хуже: «Неужто он до сих пор ничего не сделал? Неужто с ним ничего не случилось?»
«Я бы вовсе не стал тогда читать ваших рассказов, г. Марлинский, потому что — извините мою откровенность — я уже не раз и не втихомолку зевал при ваших частых, сугубых и многократных отступлениях. Хоть бы вы за наше терпение перекувыркнули вверх дном этот проклятый карбас, который ползет по воде, как черепаха по камням. Так нет, сударь: всплыл, как всплыл. Думаем, вот сцапает он Савелья за вихор, минуя брандвахту, и откроет в нем какого-нибудь наполеоновского пролаза или морского разбойника. Не тут-то было! Вместо происшествий у вас химическое разложение морской воды; вместо людей мыльные пузыри и, что всего досаднее, вместо обещанных приключений ваши собственные мечтания».
Я ничего вам не обещал, милостивый государь, говорю я с возможным хладнокровием для авторского самолюбия, проколотого навылет, — самолюбия, из которого еще каплет кровь по лезвию насмешки. Ваша воля — читать или не читать меня; моя — писать как вздумается.
«Но, милостивый государь, я купил рассказ ваш».
Я не приглашал вас; не брал вас с учтивостью за ворот, как это делается в свете при раздаче лотерейных билетов или билетов на концерт для бедных. Вы купили рассказ мой и можете сжечь его на раскурку, изорвать на завивку усов, употребить на обертку ваксы. Вы купили с этим право бранить или хвалить меня, но меня самого вы не купили и не купите, — я вас предупреждаю. Перо мое — смычок самовольный, помело ведьмы, конь наездника. Да, верхом на пере я вольный казак, я могу рыскать по бумаге без заповеди, куда глаза глядят. Я так и делаю: бросаю повода и не оглядываюсь назад, не рассчитываю, что впереди. Знать не хочу, заметает ли ветер след мой, прям или узорен след мой. Перепрянул через ограду, переплыл за реку — хорошо; не удалось — тоже хорошо. Я доволен уже тем, что наскакался по простору, целиком, до устали. Надоели мне битые укаты ваших литературных теорий chaussées [158], ваши вековечные дороги из сосновых отрубков, ваши чугунные ленты и повешенные мосты, ваше катанье на деревянной лошадке или на разбитом коне, ваши мартингалы, шлих-цигели и шпаниш-рейтеры; бешеного, брыкливого коня сюда! Степи мне, бури! Легок я мечтами — лечу в поднебесье; тяжек ли думами ныряю в глубь моря…
«И приносите со дна какую-нибудь ракушку».
Хоть бы горсть грязи, милостивый государь. Она все-таки будет свидетельницей, что я был на самом дне. Для купца дорог жемчуг; естествоиспытатель отдает свой перстень за иную подводную травку. Что прибавит жемчужина к итогу счастья человеческого? А эта травка, может быть, превратится в светлую идею, составит звено полезного знания. Желаю знать: купец вы или испытатель?
Читатель мой дворянин, не только личный, но, может статься, двуличный, наследственный: он никак не хочет назваться купцом. Опять он терпеть не может и естествоиспытателей всех родов, которые пластают, потрошат природу, рассекают мозг, и сердце, и карманы человеческие вживе, будь они хоть пятого класса, и ловят там насекомые мысли, пресмыкающиеся чувства. Да мало того, что они нашпиливают все это на остроумие и выставляют на благорассмотрение почтеннейшей публики; они подслушивают у дверей кабинетов, заползают под изголовья супружеские, втираются в сени палат, подкапываются под гробы, проникают всюду как золото, впиваются в души как лесть и потом — милости прошу! — все ваши тайны вынесены уж на толкучий.