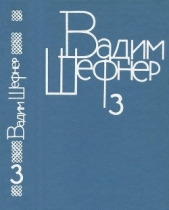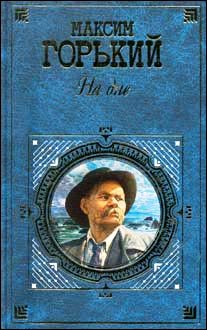Том 10. Сказки, рассказы, очерки 1910-1917

Том 10. Сказки, рассказы, очерки 1910-1917 читать книгу онлайн
В десятый том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1910–1917 годах. Из них следующие входили в предыдущие собрания сочинений писателя: «Сказки об Италии», «Романтик», «Жалобы», «Мордовка», «Н.Е. Каронин-Петропавловский», «Три дня», «Случай из жизни Макара», «Русские сказки». Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким. Большая часть их в последний раз редактировалась писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 годов.
Остальные произведения включаются в собрание сочинений впервые. За немногими исключениями эти произведения М. Горький повторно не редактировал.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Внизу под обрывом родился тихий плеск — там, по тёмному лону реки, точно муха по стеклу, скользил челнок.
— Это ты, что ли, Николай? — тихо спросил рыбак.
Назаров не ответил, прислушался к мерным вздохам воды под ударами вёсел и подумал:
«Не спешит! Некуда ему спешить».
Кончилась всенощная. Был слышен гул и движение людей. Тявкали собаки, топали кони, собираясь в ночное, чей-то унылый голос безответно тянул:
— Ва-анька-а… ужи-ина-ать…
II
Недалеко от мельницы Назарова, на пути реки Боломы, встал высокий холм — река срезала половину его, обнажив солнцу и воздуху яркие полосы цветных глин, отложила смытую землю в русло своё, наметала острый мыс и, круто обогнув его вершину, снова прижалась к пёстрому берегу.
На мысу рос тальник, стояла маленькая грязная водокачка, с тонкой высокой трубой на крыше, а за мысом, уютно прикрытая зеленью, встала полосатая купальня, синяя и белая. Берег укреплён фашинником, по склону его поло́го вырезана дорожка, он весь густо усажен молодым березняком, а с верха, через зелёную гриву, смотрит вниз, на реку и в луга, небольшой дом, приземистый, опоясанный стеклянной террасой, точно подавленный антресолями, неуклюжей башенкой и красным флюгером над нею.
Николай Назаров обогнул мыс, ловко загребая одним веслом, причалил, взял вёсла и выскочил на мостик купальни. Посмотрев в воду, как в зеркало, парень пригладил волоса, застегнул вышитый ворот рубахи, надел жилет, взглянул на часы и, взвесив их на ладони, неодобрительно покачал головою. Потом, перекинув через руку новый синий пиджак, не спеша пошёл в гору, двигая мускулами лица, точно выбирая выражение, с каким удобнее войти наверх.
Но когда, выйдя на площадку перед террасой, он увидел Якова Ильича Будилова, — его лицо само собою приняло выражение почтительное, серьёзное и диковатое.
Тихий барин сидел в тени берёз за большим столом, в одной руке он держал платок, а другою, с циркулем в ней, измерял что-то на листе ослепительно белой бумаги. И сам он был весь белый, точно снегом осыпан от плеч до пят, только шея, лицо и шляпа — жёлтые, разных оттенков, шляпа — ярче, а кожа темнее. Над ним кружились осы, он лениво взмахивал платком и свистел сквозь зубы.
Назаров снял картуз, шаркая по земле толстыми подошвами сапог. Яков Ильич выпрямил спину, вытянул под столом тонкие длинные ноги и несколько секунд молча смотрел сквозь круглые очки в лицо гостя, потом его редкие, жёлтые усы, концами вниз, дрогнули, обнажив чёрные зубы.
— Ага, это вы? — сказал он глуховато, мягко и в нос.
Николай подвинулся к столу.
— Доброго здоровьица!
— Спасибо! — ответил Будилов, вертя между пальцами циркуль.
— Я вам не помешаю?
— Нисколько! Садитесь. Но вот что я вам скажу: каждый раз, приходя ко мне, вы говорите: «Доброго здоровьица» и потом спрашиваете: «Я вам не помешаю?» Так?
— Точно так, — согласился Николай, вздохнув.
— Ну, иногда надобно сказать что-нибудь другое, как-нибудь иначе. Например: «Добрый день!» И спросить: «Как здоровье?»
Говоря, барин заставлял циркуль ходить по бумаге, а Николай слушал и рассматривал человека, всегда внушавшего ему стеснительное чувство, связывавшее язык и мысли. Лицо барина напоминало китайца с вывески чайного магазина: такое же узкоглазое, круглое, безбородое, усы вниз, такие же две глубокие морщины от ноздрей к углам губ и широкий нос. Стёкла очков то увеличивали, то уменьшали его серенькие глаза, и казалось, что они расплываются по лицу.
— Ну, как живёте?
— Ничего-с.
Барин собрал нос в комочек.
— Вот опять слово-ер…
— Привычка, — виновато сказал Николай.
— Дурная!
Глядя в лицо парня усталым взглядом глаз, Будилов загудел скучноватым баском:
— Дурная-с! Это прилично лакею. Вы же не лакей, а крестьянин. Да. Если лакей не скажет слово-ер — ему не дадут на чай.
Сдвинув шляпу на затылок, обнажив голый череп, сунул руки в карманы и, рассматривая белые башмаки свои, продолжал:
— Ведь вы же не говорите Покровскому слово-ер?
Николай, почтительно улыбаясь, ответил:
— Господин Покровский учитель, он живёт за наш, крестьянский счёт, значит — человек служащий, а вы — другое дело-с, как же…
Барин распустил нос по лицу, сожалительно чмокая.
— Ай-яй! Ну, какое же, батенька, другое дело! Это же всё равно! Я же вам объяснял: учитель — учит, я строю церкви, вы мелете муку, мы же все делаем дело, необходимое людям, и все мы равно заслуживаем уважения, это же надо понять! Надо уважать всякий труд, это и сделает всех культурными людьми, да, а культурному человеку нельзя говорить слово-ер.
— Я — забыл, — сказал Николай, покраснев и опуская голову под укоризненным взглядом.
— Хотите чаю? — спросил Яков Ильич, сняв и протирая очки.
— Покорно благодарю, не хочется.
— Ну как же не хочется? Потом я покажу вам новый улей.
За стёклами террасы бесшумно мелькала тёмная фигура, доносился тихий звон чайных ложек. Речь хозяина, гудение пчёл, щебетанье птиц — всё точно плавилось в жарком воздухе, сливаясь в однообразный гул и внушая Назарову уныние.
— Что, с отцом — говорили?
Николай приподнял плечи, вертя картуз в руках.
— Нет, не говорил с той поры. Ничего не выйдет, окромя ссоры. Очень уж он привержен к мельнице: «дед был мельником, и я, и тебе это дано…»
— Глупо!
— Именно что глупо! Нет, уж, видно, надо подождать, когда помрёт он.
Яков Ильич кашлянул или усмехнулся и, сняв шляпу, помахал ею в лицо себе.
— М-да — ждать? — протянул он, сморщив нос. — Не очень это удобно мне — ждать…
— Здоровье у него всё слабеет…
— Ну, это, знаете…
— Яша, чай пить, — крикнули с террасы.
Будилов встал на ноги, сухой, тонкий, белый и весь в новом.
«Словно покойник», — подумал Николай.
— Идёмте! Да не надо же надевать пиджак, — моя мать — не барышня; вот если бы барышни были, ну тогда…
На террасе, за столом сидела дородная, большая старуха, лицо у неё было надутое, мутные глаза выпучены, нижняя губа сонно отвисла, седые волосы гладко причёсаны и собраны на затылке репой. В ответ на поклон Николая она покачнулась вперёд и напомнила ему куклу из тряпок, набитую опилками.
— А не жарко здесь, Яша?
— Везде жарко, — ответил Будилов, усаживаясь в плетёное кресло. — Надо привыкать, мамаша, — в аду будет ещё жарче…
— Ну-у, — сказала старуха, подбирая губы.
— Там жара доходит до трёхсот градусов.
— Ничего нам не известно про ад…
Сын серьёзно и укоризненно сказал:
— Вы же не знаете, мамаша, а говорите! Между тем семь лет назад один учёный немец был там и всё измерил и узнал. Его спускали на цепях, просверлили дыру в земле — на Кавказе — и спустили! Да.
Старуха, оскалив большие жёлтые зубы, закачалась, говоря:
— Никогда не поймёшь, Яша, шутишь ты или серьёзно! Мне-то ничего, я уж привыкла, а вот он может поверить.
— Я понимаю, что Яков Ильич шутят, — молвил Николай, усмехаясь.
— Шутит! Надо же говорить правильно. Об одном человеке говорится — шутит, а не шутят. Шутят — черти и актёры.
Назарову стало неловко и обидно.
— Н-да-с, — продолжал архитектор, облизав ложку, которой взял варенье из вазы, и опустив её в стакан. — Вы, конечно, знаете, что все эти черти, леший, ад и прочее — всё это называется предрассудками, суевериями, то есть — чепуха…
— Павел Иванович объяснял…
— Ну вот, это хорошо. Он серьёзный человек, вы его слушайте. Вот видите, — и Будилов постучал пальцем по столу, — я же придерживаюсь совсем других взглядов, чем он, но я говорю — он хороший человек. Это называется воздать врагу должное, и это вы усвойте. Да. Когда Покровский станет говорить о царе, дворянах, начальстве, вообще о политике — вы этого не слушайте, политика для вас не годится. После, когда вы будете хозяином своего дела, — оно вам внушит, какая политика для вас всего лучше. Если у человека нет ничего своего, он не может понимать, что такое государство, и зачем оно, и какой политики надобно ему держаться… Понятно?