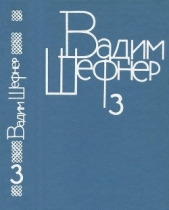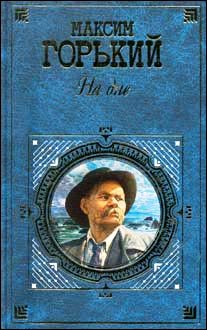Том 10. Сказки, рассказы, очерки 1910-1917

Том 10. Сказки, рассказы, очерки 1910-1917 читать книгу онлайн
В десятый том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1910–1917 годах. Из них следующие входили в предыдущие собрания сочинений писателя: «Сказки об Италии», «Романтик», «Жалобы», «Мордовка», «Н.Е. Каронин-Петропавловский», «Три дня», «Случай из жизни Макара», «Русские сказки». Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким. Большая часть их в последний раз редактировалась писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 годов.
Остальные произведения включаются в собрание сочинений впервые. За немногими исключениями эти произведения М. Горький повторно не редактировал.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да что ты! — повторила она обиженно. — Что тебе кажется? Господь с тобой, право!
Он подвинулся к ней, тихо говоря:
— Ты на что мне в то воскресенье про Федосью Шилову рассказала?
— И не помню я даже…
— Не помнишь?
Но вдруг покраснев, она взмахнула рукой и, широко крестясь, заговорила торопливо:
— Вот — на! — святой крест — правда это! Все говорят про неё, только доказать нельзя, ведь уж семь месяцев прошло, как он помер…
Она смотрела прямо в глаза ему, речь её становилась всё многословнее, оживлённее — он подумал: «Может, ошибаюсь я, свои мысли вижу у неё…»
И вслух сказал примирительно:
— Да я не про это! Нужно ли мне в чужое дело соваться?..
— Так про что же? — спросила она удивлённо.
— Да вот… всё вместе со мной в лодке отсюда ездила, а сегодня вдруг будто испугалась чего — иду одна, пешком!
В глазах её вспыхнули и тотчас погасли зелёные искорки, она обняла его за шею и, поцеловав, шепнула на ухо:
— Не бойся!
— Чего? — спросил Назаров, тоже обняв её, а она, крепко прижимаясь к нему грудью, томно прикрыв глаза, маня и обещая, сказала:
— Ничего не бойся! Ой, люблю я тебя до смерти!
И, вдруг обессилев, тяжело повисла в его руках.
У него сладко кружилась голова, сердце буйно затрепетало, он обнимал её всё крепче, целуя открытые горячие губы, сжимая податливое мягкое тело, и опрокидывал его на землю, но она неожиданно, ловким движением выскользнула из его рук и, оттолкнув, задыхаясь, крикнула подавленно:
— Иди, уходи!
Он, шатаясь, пошёл к ней.
— Уходи, Николай! — снова крикнула она. — Не могу я… ну тебя…
Глядя на неё пьяными глазами, обессиленный возбуждением, он пробормотал:
— Доведёшь ты меня… додразнишь до греха, гляди, Христина…
И, круто отвернувшись, пошёл сквозь кусты к лодке.
Когда он оттолкнулся от берега, то увидал над зеленью кустарника её лицо: возбуждённое, глазастое, с полуоткрытыми улыбкой губами, оно было как большой розовый цветок. Простоволосая, с толстой косою на груди, она махала ему платком, рука её двигалась утомлённо, неверно, и можно было думать, что девушка зовёт его назад.
Крепко стиснув вёсла, он погрузил их в реку и рванул к себе, громко, озлобленно крякнув.
— Вечером-то увидимся ли? — негромко сказала Христина.
Он не ответил, яростно взрывая воду вёслами.
III
Доплыв до села, он вышел на берег и, подавленный смутным, тревожным желанием, которое и запрещало ему идти домой и влекло туда, — пошёл повидаться с учителем Покровским.
Павел Иванович, щуплый, сухонький человечек с длинным черепом и козлиной бородкой на маленьком лице, наскоро склеенном из мелких, разрозненных костей, обтянутых сильно изношенной кожей, пил чай со Степаном Рогачёвым, парнем неуклюжим, скуластым, как татарин, с редкими, точно у кота, усами и гладко остриженною после тифа головою.
Назаров, вяло улыбаясь, поздравил учителя с приездом, на заботливый вопрос Покровского — почему он такой невесёлый? — сообщил о болезни отца и замолчал, а учитель снова стал оживлённо и торопливо, мягким баском, рассказывать Степану что-то о кометах, звёздах. Николай не слушал, он был уверен, что все речи учителя знакомы ему, как «господи помилуй», они интересны, но лишние для жизни, — никому не нужны звёзды, и всё равно, как вертится земля, это никому не мешает. Нужно — простое, ясное: кусок земли, просторный, светлый дом, хорошая, неглупая жена и — чтобы люди уважали, не трогали, — вот что крепко ставит человека на ноги и даёт душе покой. Сначала — это, а потом уже всё другое, что кому нравится. Притеснять людей не надо, пусть каждый живёт как хочет. Люди ежедневно доказывают друг другу, что жить сообща — не могут они, нет у них для этого уменья, и задачи разные у всех.
«Дешёвый человек, — лениво думал он про учителя, — так себе живёт, без назначения…»
А Степан вызывал у него неприязненное и завистливое чувство развязностью, с которой он держался перед учителем, смелостью вопросов и речей: следя за ним исподлобья, он видел, как Рогачёв долго укреплял окурок стоймя на указательном пальце Левон руки, уставил, сбил сильным щелчком пальцев правой, последил за полётом, и когда, кувыркаясь в воздухе, окурок вылетел за окно и упал далеко на песок, Рогачёв сказал, густо и непочтительно:
— А по-моему, — никто не верит в способность народа к разуму!
«Это верно», — подумал Назаров.
— Ну-у, — недовольно протянул учитель. — Откуда ты взял?
— Да так уж! Все книжники в народе — как в лесу. Как на охоту выходят — не попадёт ли что приятное? Главное — приятное найти…
— Неосновательно говоришь ты, Степан!
— Ну?
— Нехорошо.
Облака, поглотив огненный шар солнца, раскалились и таяли, в небе запада пролились оранжевые, золотые, багровые реки, а из глубин их веером поднялись к зениту огромные светлые мечи, рассекая синеющее небо.
Назаров думал: «Продаст Будилов землю…»
Гудя, влетел жук, ткнулся в самовар, упал и, лёжа на спине, начал беспомощно перебирать чёрными, короткими ножками, — Рогачёв взял его, положил на ладонь себе, оглядел и выкинул в окно, задумчиво слушая речь учителя.
Его басок лился густою струёй, точно конопляное масло; по лицу разбегались круглые улыбочки, он помахивал в воздухе сухонькой рукой, сжимая и разжимал пальцы.
— Понемногу, в сотне тысяч деревень, — захлёбываясь словами, говорил он, — каждогодно входят в жизнь молодые, доброжелательные умы, и скоро Русь увидит себя умной, честной.
«И Будилов то же говорит», — думалось Николаю.
— Конечно, — сказал Степан, пощипывая усы, — жизнь обязательно должна идти к лучшему — как же иначе?
Николай встал, протягивая учителю руку.
— Мне пора домой, я ведь только повидаться зашёл, а то — нехорошо, отец там…
— И я тоже иду, — сказал Рогачёв, — у меня за мельницей рыбьи делишки налажены.
— Погодите, — всё ещё мечтательно улыбаясь, заявил учитель, — я с вами, мне к отцу Афанасию! Сейчас переоденусь.
Степан потянулся, почти достав потолок руками, и сказал:
— Не люблю батьку!
— За что его любить? — отозвался учитель, суетясь в углу. — Мне по службе необходимо показывать видимость уважения к нему и всё подобное эдакое. Ну, идёмте!
Половина тёмно-синего неба была густо засеяна звёздами, а другая, над полями, прикрыта сизой тучей. Вздрагивали зарницы, туча на секунду обливалась красноватым огнём. В трёх местах села лежали жёлтые полосы света — у попа, в чайной и у лавочника Седова; все эти три светлые пятна выдвигали из тьмы тяжёлое здание церкви, лишённое ясных форм. В реке блестело отражение Венеры и ещё каких-то крупных звёзд — только по этому и можно было узнать, где спряталась река.
Лес в темноте стал похож на горы, всё знакомое казалось новым, влажное дыхание земли было душисто и ласково.
«Продаст Будилов землю, — угрюмо думал Николай, — продаст! Эх, отец…»
Рогачёв и учитель, беседуя, тихонько шли вперёд, он остановился, поглядел в спины им и свернул в сторону, к мосту, подавляемый тревогой, а перейдя мост, почувствовал, что домой ему идти не хочется. Остановился под вётлами на берегу и, обернувшись спиною к неприятным огням мельницы, посмотрел на село, уже засыпавшее, полусонно вздыхая. Редкие огни в окнах изб казались глубокими ранами на тёмном неуклюжем теле села, а звуки напоминали стоны. Вид села вечером и ночью всегда вызывал у Назарова неприятные мысли и уподобления: вскрывая стены изб, он видел в тесных вонючих логовищах больных старух и стариков, ожидающих смерти, баб на сносях, с высоко вздёрнутыми подолами спереди, квёлых, осыпанных язвами золотухи детей, видел пьянство, распутство, драки и всюду грязь, от которой тошнило. Люди в этой грязи — точно черви…
Он знал, что всё село ненавидит и боится мельника Назарова и что часть этой ненависти отражённо падает и на него. Фаддея Назарова не любили за богатство, за то, что он давал деньги в рост, за удачу во всех делах и распутство.