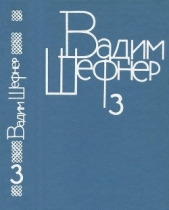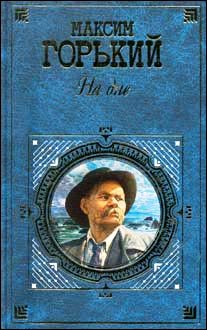Том 10. Сказки, рассказы, очерки 1910-1917

Том 10. Сказки, рассказы, очерки 1910-1917 читать книгу онлайн
В десятый том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1910–1917 годах. Из них следующие входили в предыдущие собрания сочинений писателя: «Сказки об Италии», «Романтик», «Жалобы», «Мордовка», «Н.Е. Каронин-Петропавловский», «Три дня», «Случай из жизни Макара», «Русские сказки». Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким. Большая часть их в последний раз редактировалась писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 годов.
Остальные произведения включаются в собрание сочинений впервые. За немногими исключениями эти произведения М. Горький повторно не редактировал.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да!
— Гм… Какой же он?
— Хороший врач. Пил сильно…
— Пил? Э-с… Удивительно — все встречаются… Он рассказывал про меня?
— Нет. Впрочем, не помню…
— Рассказывал, значит…
Капитолина сидит, неподвижно глядя перед собою, точно спит с открытыми глазами. Лицо её сильно покраснело, рот полуоткрыт, она дышит бурно; косые глаза доктора упёрлись в грудь её и точно прижимают к спинке кресла.
— Факты! — бормочет Паморхов, наливая коньяк. — Собственно говоря, я растратил себя по мелочам. Кажется — жил, жил, и даже очень, а вот вспоминаешь — и всё хлам, пустяки всё… И как будто нет, не было фактов, а только одна философия… чёрт возьми мою наружность!
— Ты бы лёг, в самом деле…
— Не хочу, — грубо говорит Паморхов, оглядывая комнату. — Капочка, прикажи зажечь огонь, что тут за погреб! И этот дурацкий цветок… когда висели драпри, он не лез в глаза так… нахально!
Капитолина протянула руку к звонку на столе, но не достала его и, бессильно уронив руку на колени, улыбнулась сонно.
— Не хочется света… так уютнее!
Паморхов хрюкнул и снова заговорил:
— Это, говорят, нехорошо, но я не люблю честных людей, так называемых передовых и честных. В некрологах всегда пишут: «Это был человек передовой и честный». Они меня раздражают… чёрт их знает чем, но — нестерпимо! Был еврей, держал лабораторию для исследований каких-то… ну, вообще химик! Чахоточное такое существо, глаза огромные и, знаешь, эдакие… с выражением затаённой муки, как пишут в стихах. С упрёком всему миру и мне. Мне особенно! Все дудят о нём: честнейший человек, святая душа… Невыносимо! Я живу на одной улице с ним, встречаемся… Идёт гулять с детьми, девочка у него — превосходная девочка, такая, брат, красавица, лет семнадцати… Два мальчика… Бывало, встречу его, и даже дрожь пройдёт, — ах ты, думаю, козявка! И не потому, что он еврей, а так, вообще, раздражает…
— Ну, чем же кончилось? — тихо спросил доктор.
— Погубила его химия… знаешь, седьмой год, тогда не церемонились…
Паморхов помолчал, вздохнул и спросил глухо:
— По-твоему, злой я или нет?
— Вероятно, нет, — сквозь зубы сказал доктор.
— Нет?
— Но бываешь не злой, а хуже злого.
— Хуже, да?
— Ты очень возбуждён, иди, отдохни, советую…
— Не хочу же! Д-да… так вот, всё у меня на пустяки и пошло. Бабы, конечно… Это, брат, вопросище — бабы, а? Капочка, я не про тебя… ты дана мне судьбой не в наказание, а в награду.
— Что ж, — сказал доктор, медленно и неохотно, — и за грехи должна быть награда. Грешить нелегко, когда занимаешься этим серьёзно.
— Э-с, — вскричал Паморхов и хрипло засмеялся, — я грешил серьёзно! Забавные бывали истории. Был у меня приятель, товарищ прокурора Филиппов, удивительно остроумная скотина… Мы с ним на пари гимназистку одну травили, кто первый? Изящная такая гимназисточка, дочь учительницы, француженки… рахат-лукум! Досталось мне. И триста рублей выиграл. Плакала, конечно, просила — женись, говорит! Я говорю: «Madёmoisёllё, надо было вести себя осторожно!..» А у Филиппова была пассия, жена одного судейского, дама с нервами и принципами…
Паморхов задохнулся, схватившись за ручки кресла, и неожиданно громко сказал:
— Сейчас…
— Что? — спросил доктор, глядя в камин, но Паморхов продолжал торопливо, точно сбрасывая с себя воспоминания:
— М-монархистка, проповедовала и даже писала что-то, печатала… Надоела ему. «Хочешь пошутить?» — спрашивает. Пошутили, знаешь… Пригласил он её к себе и меня… подпоил… я. Ах… ну, знаешь, мы смеёмся… Едва удержался я в городе…
— Брось-ка ты всё это, — заговорил доктор, наклоняясь и разбивая головню в камине.
Паморхов повернул к нему синее, вздувшееся лицо, оно ощетинилось и дрожало. Ухватившись пухлыми пальцами за ручки кресла, он покачивался, вздыхая, как загнанная лошадь. Зрачки его вытаращенных глаз расширились и потускнели, белки налились кровью, он словно прислушивался к чему-то, испуганно и жутко.
Стряхнув дремоту, Капитолина прижала пальцами глаза и спросила:
— Ну, что ж дальше?
Паморхов засопел, рознял руки и, взмахнув ими, повалился на пол, вперёд головой.
— Чёрт! — вскричал доктор, вскакивая, но не успев поддержать падавшего.
Женщина, открыв рот, упираясь руками в стол, медленно, точно приподнимая тяжесть, вставала, спрашивая шёпотом:
— Он, уже? Неужели?..
— Позови людей, — тихо сказал доктор.
— Господи, неужели…
Паморхов дёргал ногой, толкая стол, звеня бутылками, и вытягивался на полу, освещаемый танцующим огнём камина.
— Говорил я тебе, — заставь написать духовную, — сердито бормотал доктор, поднимая с пола тяжёлую голову Паморхова.
— Не смейте об этом! — крикнула женщина, топнув ногой, и убежала.
Положив на колено себе голову Паморхова, доктор отвернулся в сторону от синего лица с высунутым языком и туго налитыми кровью торчащими ушами. Один глаз Паморхова был закрыт, другой выпученно смотрел в сторону зеркала, а верхняя губа мелко дрожала, сверкая серебром волос.
— Кондратий стукнул, — сказал доктор сердито и озабоченно, но когда ему не ответили, поднял голову и оглянулся. В стекле зеркала, ниже подзеркальника, он увидал себя и больного, два тела плотно слепились в бесформенную кучу, доктор съёжился и быстро спустил голову Паморхова с колена на пол.
Вбежали двое мужчин, горничная, Капитолина, впятером они подняли тяжёлое, расплывшееся тело и, громко топая, вынесли его. Капитолина, открыв рот, пошла за ними, в дверях остановилась, оглядывая комнату, и вдруг — взвизгнув, точно её кто-то ударил, выскочила вон.
Трещал и шелестел огонь, отражения его дрожали на паркете жирными пятнами кипящего масла. Однотонно ныл дождь за окнами, в глубине дома возились, визжали, чей-то голос глухим басом крикнул:
— Беги в погреб… лёду тащи…
В пустой, тёмной комнате вздохнуло эхо.
Три дня
I
Мельник Назаров не торопясь подъехал к воротам, степенно вылез из брички, снял картуз и, крестясь, глядя в небо, сказал работнику Левону:
— Пощупай левую переднюю у коня.
Неласково, подозрительно посмотрел на старый, осевший в землю дом — в два маленькие его окна, точно в глаза человека, кашлянул и грузно опустился на лавку у ворот, помахивая картузом, чтоб отогнать надоевшего шмеля.
— Татьян!
Лысый Левон тенористо ответил со двора:
— На реку пошла, белье полоскать.
— Баню топили?
— А как же!
За рекою, на жёлтых буграх песка, вытянулся ряд тёмных изб, ослепительно горели на солнце стёкла окон, за селом поднималось зелёное облако леса. По эту сторону, на берегу, около маленького челнока возился мужик.
«Стёпка Рогачёв, пёс», — мысленно отметил мельник.
— А ногу-то мерину зашиб ты! — сказал Левон, выглядывая за ворота.
— Позови Дашку. А Николай где?
— Николай — ковши чинит, слышь — стучит? Дарья-а! Она в огороде, поди-ка!
Почёсывая болевшую спину о брёвна и расправляя усталые ноги, хозяин бормотал:
— Города эти… Зовутся — мощёны улицы, а — яма на яме! Как ни съездишь — всё, гляди, чего-нибудь испорчено…
Со двора выскочила Дарья, большая, растрёпанная, курносая, с двумя красными опухолями на месте щёк.
— Здрастуйти!
Дважды качнула головой и, подняв руки, начала быстро закручивать белесые, выгоревшие волосы.
Назаров, неодобрительно посмотрев на неё, плюнул, отвернулся в сторону.
— Застегнулась бы, лешая, чего с голыми грудями бегаешь! Возьми одёжу, встряхни, да самовар наставь…
— Есть тут когда застёгиваться! — сердито ответила девушка, прикрывая грудь большой грязной рукою.
Она надула губы, густые брови её, сойдясь, опустились на синие маленькие глаза, и, тяжело топая босыми ногами, пошла прочь, шмыгая носом.
Глядя вслед ей, мельник подумал:
«Был бы я моложе, не щеголяла бы эдак-то! Я б тебя застегнул на все крючки…»