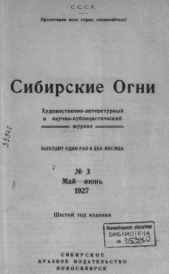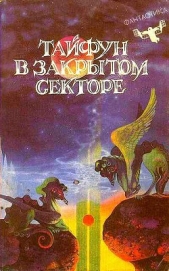Полынь-трава

Полынь-трава читать книгу онлайн
Рассказ "Полынь-трава"
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дышали дни нерукотворными легендами о черноусом Семене Будённом, что, наполнясь ратного духа, повел полки свои на разбойную землю половецкую, за красную Русь.
С гомоном, с песней лихой, с неистощимой силой летели полки в половецкие степи.
Суровы были бойцы, взрощенные трубными зовами, взлелеянные под богатырками, вскормленные стальными жалами пик, были им ведомы все дороги и знакомы овраги, крепко натянуты поводья, метки винтовки и отточены сабли.
И скакали полки, как серые волки в поле, ища себе чести, а красному краю славы.
Загородили они сердце страны багряным блеском знамен, звоном клинков, конским тяжким топотом.
И тогда в Русской земле редко выходили на ниву пахари, но часто каркали вороны, деля меж собой трупы, и поднимали стрекот галки, сбираясь лететь на покормку.
Густо усеялась степная пахучая целина костями под конскими копытами, полилась кровью, — возрастала же щедро печалью по всей стране.
И у устьев великого Дона сходились в смертной ненависти трудовая красная рать и разбойная кочевая рать половецкая.
Катался круглыми волнами над степями пушечный гром, в потревоженном небе клекотали степные орлы.
И с одной стороны искал смертной встречи с вражьей ордой сводный курсантский полк, а с другой — кавалерийский юнкерский полк «бессмертных».
И пока метались курсанты по ковыльным берегам тихого Дона, ловил Роман ненасытно и неустанно вести о брате-враге, о брате-кровнике, письмо к которому лежало во внутреннем кармане гимнастерки, рядом с выпиской из книги о браках, в которой отмечено было, что марта второго дня зарегистрирован, под номером сто тридцать седьмым, брак курсанта Романа Руды, двадцати семи лет, рабочего слесаря, с Белоклинской Анной, дочерью полковника, двадцати трех лет.
Каждого пленного офицера с жадной пытливостью допрашивал Роман об Аннином брате, но ни разу не услышал в ответ: «Знаю».
Письмо продолжало лежать в гимнастерке, и серый казенный пакет протерся, пропитался потом.
А Всеволод Белоклинский носился со своим полком по степным небитым дорогам, нося в душе смятение, тревогу и отчаяние.
Часто вспоминал последнюю исступленную ночь, жаркоглазую Настеньку, отдавшую ему любовь нетронутую, бесконечную, смертельную.
И помнил еще слова Настенькины: «На гибель идешь, голубь! Смерть твою чую — не живут такие».
Помнил и ждал смерти, потому что не было у него ни дома, ни родины. Была пустота, сомнение и растерянность.
Только в кожаном бумажнике с серебряной монограммой носил маленькую записку, а в записке стояло: «В случае моей смерти прошу сообщить по двум адресам: Город Т., Монастырская улица, дом 2. Варваре Сергеевне Уральцевой для Анны Белоклинской, и еще: Ростов, Темерник, дом Дедю-линой, Анастасии Петровне Руда. Очень прошу это сделать. В. Белоклинский».
О брате Настенькином Романе ничего не знал Всеволод Белоклинский, и только запомнились ему пристальные и твердые глаза на фотографии над кроватью.
Стекали с неба на степной чернозем плавленые дни, зажигали в сердцах ярость и ненависть.
И встретились двое на берегах мутноводного Мамыча.
Сошлись красные конники и разбойные половчане для смертной встречи у речного быстрого тока.
С утра до вечера, с вечера до златопламенной зари летят кусачие пули, гремят встречно клинки, трещат пики в незнаемом поле, посреди половецкой земли.
На Маныч-реке не снопы стелют, — головы; молотят стальными цепами, на току кладут жизни, веют души от тел.
Кровью покрыты берега Маныч-реки, не зерном засеяны, засеяны костями ратей.
Бились день, бились другой, на третий пали штандарты с георгиевскими лентами, поволочились в густой пыли.
По следу уходивших половецких конников бросились конники вольного красного края. Но волками огрызались, уходя, последние, скалили гнутые свистящие клыки шашек.
И на закраине станицы встретились двое.
На обходившие с фланга курсантские эскадроны была брошена лавой последняя надежда врага, полк «бессмертных».
Было где разгуляться на гладком степном ковре.
Заломив фуражки, всадив шпоры коням, понеслись юнкера отчаянным карьером в атаку. Не дрогнули запыленные серые эскадроны и, только переменив направление навстречу атакующему, развернулись и по команде: «Карьером, марш-марш» — ринулись навстречу.
Неслись оба полка без выстрела, и даже ненасытные пулеметы, сеявшие свинцовый сев из-за станичных заборов, стихли.
Только гудела земля под копытами, звенели стремена, шашки, яростно ржали кони, и оба строя налетели друг на друга, скрылись в облаке горячей пыли. И в рядах полков — с одной стороны горбоносый высокий донской скакун нес машистыми скачками сероглазого юнкера, с другой — мохнатая, коротконогая вологодка, хрюкая селезенкой, потряхивала широкоплечего в богатырке, с пристальными и твердыми глазами… В сшибке в облаке пыли наскочили друг на друга горбоносый донец и мохнатая вологодка.
Курсант ударил наотмашь, но ловкая рука отбила удар, и почувствовал Роман, как вылетела шашка из онемевшей кисти. Увидел серебром взлетевшую в воздух для удара полосу.
Зажмурясь, схватился за кобуру, но в левую сторону шеи резнуло, и выбивающая память боль остановилась в середине груди.
Зеленым сиянием застлало глаза, сквозь пленку мелькнуло над головой лицо с оскаленными зубами, и уже неживым упором Роман спустил курок нагана в этот оскал.
Выронил стремена и свалился на полынную целину, раздвоенный казачьим клинком почти до пояса.
А сверху тяжестью навалилось легшее поперек тело с черной дырочкой между глаз, откуда неровными толчками брызгала кровь и выползали желтые жирные комки.
Кровь их смешалась на степной, древней полынной земле, и земля приняла любовно красные живоносные токи.
Кровь курсанта Романа и юнкера Всеволода, врагов, братьев, кровников, одной стала кровью в этот час.
Одна людям любовь, одна ненависть.
И нет большей любви, как та, что всходит над нашей землей из почвы, впитавшей кровь, порожденную ненавистью.
Имя любви — грядущее. Не нам любовь, — детям и детям детей наших.
Нам скорбная память. Вдовам и невестам слезы, одинокая туга, сиротство.
Ночами с курганов поверх деревьев кличет тревожным клекотом вещая Див-птица.
Кличет, велит слушать землям: Волге и Поморью, и Посулью и Сурожу, и великому Корсуню и тебе, поверженный в желтые воды, истукан Тмутараканский.
Предвещает клекот лютую печаль земле, стенания и муки вдовам, невестам сиротливую долю.
Поднимаются на клекот с одиноких постелей головы, глядят в тьму бессонными очами, протягивают заломленные руки, припадают к ложу иссушенными сиротным томлением телами.
Полегли мужья, женихи по степным разлогам, ища себе чести, делу своему славы.
Вытоптали красные конники копытами белые полчища половецкие, загнали к шумному Евксинскому Понту, сбросили в пенную синядь.
Свет-заря растет, ширится над Русской землей, дымными клубами уплывает за рубежи заморские лютая печаль.
Колкими зеленями пошли напоенные рудой полынные степи, проросли сквозь кости полносочными травами, наливными хлебами.
Цветет красным цветом, млеющим маком земля, любится плодливо с ветрами и грозами.
На плодливой нови взбухает человечья крепкая завязь.
Только перед зарей томительно плачет в березовой роще зегзица.
И одиноко кукует Ярославна на городской стене, утирает тканым рукавом горынь слез, зовет, прикликивает, ждет с бранных полей милого князя.
Но усеян чернозем половецкий костями, полит кровью, взошел янтарным пшеничным наливом…
Не вернутся возлюбленные, прошедшие горькими степными путями, больше жизни возлюбившие ширококрылый размах ковыльных полей, ярый лет конского бега, скрип колесный в черные полночи, звон оружия, громы очищающих гроз, легшие в тугой пар пищей тучным стеблям, наземом жизнетворящим нивам.
Разными дорогами прошли они по степным просторам, разно сожгли души свои и разметали тела, но одна в телах человечьих кровь-руда, одна ненависть и любовь.