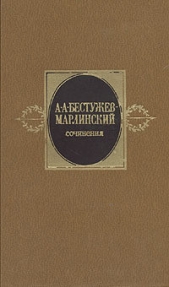Сочинения. Том 2
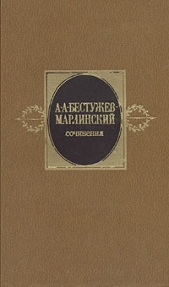
Сочинения. Том 2 читать книгу онлайн
А. А. Бестужев-Марлинский — видный поэт, прозаик, публицист первой трети XIX века, участник декабристского движения, член Северного тайного общества. Его творчество является ярким образцом революционного романтизма декабристов. В настоящее издание вошли наиболее значительные художественные и публицистические произведения Бестужева, а также избранные письма.
Во втором томе «Сочинений» напечатаны повести «Фрегат „Надежда“», «Мореход Никитин» и др., очерки «Письма из Дагестана», избранные стихотворения, литературно-критические статьи и избранные письма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тихо катился фрегат «Надежда» вдоль берегов Девоншира. Колокольни Плимута и лес мачт его гавани врастали в воды. Живописные местечки, цветущие деревни являлись и убегали, точно в стекле косморамы… Даль задергивала предметы своею синевою. Свежестью осеннею дышала земля; мирно было все в небе и на море; но вдали серые облака заволакивали кругом горизонт, широкая зыбь грозно катилась в пролив, и западные склоны ее волн, встающие все круче и круче, предсказывали крепкий ветер с океана.
Вечерело. Нил Павлович, ворча что-то про себя, с заботливым видом поглядывал на туманное небо и на тусклое море, — он стоял на вахте.
— Не прикажете ли, капитан, убрать наши чепчики, то есть брамсели, разумею я, а вслед за ними и брамстеньги? — спросил он Правина.
— Прикажите, — отвечал тот равнодушно. — Хотя я не вижу в этом большой нужды; посмотрите-ка: паруса наши чуть не левентих [148].
— Конечно так, — возразил Нил Павлович, немного уколотый таким замечанием. — Теперь пузо [149] наших парусов как передник десятилетней девочки; зато взгляните, как надуло свое море! Этакая прожора! этакой Фальстаф земного шара! Оно готово скушать и нас без перцу и лимонного соку! Прислушайтесь, как стало оно ворчать и разевать пасть свою!.. Нет, погоди ты, морская собака; мы еще не довольно грешны, чтобы познакомиться с твоею утробою, не исповедавшись на Афонской горе. Не придержать ли, капитан, круче к ветру, чтобы до ночи удалиться от берегов?
— Нет, Нил Павлович, мы спустимся в океан не ранее как обогнувши мыс Лизард, чтобы, забравшись выше, далеко миновать бурливую Бискайскую бухту. До той поры держаться надо параллельно берегу.
— Чтоб не прижало нас волнением к бурунам… Каменный утес — плохой сосед деревянному боку.
— Кажется, Нил Павлович не перешел еще меридиана жизни, за которым и самую робость величают осторожностию.
— Одной осторожностию больше — одним раскаянием менее, капитан!
— Риск — дело благородное, Нил Павлович! Не с вами ли ходили мы на гнилом решете между ледяных гор Южного океана, — и боялись ли тогда идти все вперед да вперед? Бывало, сменившись с вахты, чуть заснешь — смотришь, выбросило из койки, а сквозь пазы хоть звезды считай. Что такое? Стукнулись о льдину… течь заливает трюм, качка тронула из гнезда мачту! Да тонем, что ли? «Нет еще», — отвечают сверху. И мы засыпали опять богатырским сном.
— Это правда, капитан: мы засыпали, но это было оттого, что вы не были командиром судна, а я первым лейтенантом, как теперь. На нас не лежал ответ даже за свои души, нам с полгоря было тогда тонуть, не раскрыв даже одеяла, боясь простуды. Теперь иное дело: от нас Бог и государь требуют сохранения корабля и людей.
Капитан не слыхал окончания этой речи: он уже в глубокой думе стоял на подветренной сетке, устремив свои очи на волны.
Какое странное действие производят они на воображение тронутого человека. Игра их отражается в нем будто в зеркале. Самые мечты его колышутся, возникают, опадают в нем вещественно и, не образуясь ни во что определенное, сливаются с морем, не оставив по себе следа. Так было и с Правиным. Любовь его была глубока как море, кипуча как море, сердце его было на время оглушено разлукою, и оно очнулось лишь тут; оно пробудилось, как младенец, подкинутый безжалостною матерью к чужим воротам зимою, — и первый звук, из него вырвавшийся, был болезненный крик отчаяния. Нерассветающий мрак, убийственный холод — вот что отныне будет его тюрьмою и пыткою. Люди не сохранят для него в гостинец ни одной радости. Уединение не даст ни одной светлой мысли. Опустошает, как Тимур-ленг, душу разлука, душу человека, одаренного мыслию и чувством! Он отчуждил ее, он перелил ее в бытие милой, он сплавил свои мысли с ее мыслями, свои чувства с ее чувствами. Как чудные близнецы, сердца их срослись в одно целое, — и вдруг это целое разорвано, разбито, разброшено судьбою. Такой человек теряет вдруг все, потому что он все отдал; он не верит надежде, потому что забрал слишком много у прошлого, потому что он в часах истратил годы счастия. Лишь одно воспоминание вползает в развалины, как змея. О воспоминание! ты льешься тогда горючими слезами из очей, каплешь кровью из сердца. Разлука встает между любящимися, будто ледяная стена, и на ней, словно в волшебном фонаре, изображается в тысяче видах все былое. Вторится каждая прелесть, каждое слово неги и нежности! Чародей, она воскрешает ласки, уносившие нас до восторга, утоплявшие нас в небесном самозабвении, зажигает вновь взоры и поцелуи, и когда на устах разгорается жажда лобзаний, когда кровь пышет, когда сердце рвется слиться с другим в пламени взаимности, — рука, и уста, и сердце встречают лед, и мечта тонет в мерзлой реке, подобно голубку, опаленному пожаром. Тогда, о, тогда невольно рождается вера в злое начало, в самовластие Аримана, в силу ангела тьмы! Кажется, чувствуешь тогда его мертвящее дыхание, видишь во тьме его злобные очи, внемлешь его адский смех за собою.
Мрачней, все мрачней становилось море, и с ним заодно чернели думы Правина. Грудь его вздымалсь тяжело, будто свинцовые валы обливали ее своею тяжестию, будто лежала на ней колоссальная рука судьбы. Он смотрел на полет чаек: они одна по одной отставали от фрегата и с жалобным криком исчезали в туманном небе.
«С вами, — думал он, — улетают мои последние радости, и когда Англия, эта раковина, хранящая жемчужину моей души, исчезнет из глаз моих, не все ли равно, что я схороню ее в океане… Когда случай сведет нас? где могу я встретить ее? А между тем я, бедный скиталец, останусь над бездною один-одинок!»
Как обыкновенно звучат эти слова! Раскройте словарь, и вы с трудом их отыщете на странице. Как грамматическое орудие, они ничем не отличны от своих собратий; но как выражение мысли, как символ чувства, как след дела — я никогда не могу прочесть или услышать их, чтоб сердце мое не сжалось. Один Бог может быть одинок без скуки, ибо в лоне его движется все. Только Бог может быть один без сожаления, потому что нет ему равного.
Предвещания, предчувствия теснились в сердце Правина: сильные страсти нас делают суеверными. Но к ним прививалась и ревность, которой не мог отрицать ничей разум.
«Она будет в Лондоне и в Париже, — думал он, — и кто порука, что в вихре рассеянности она не забудет меня! Притом устоит ли она против обольщения, вооруженного всеми прелестями дарований, ума, славы, красоты, моды? устоит ли против собственного тщеславия? И я, неопытный, ни разу не дерзнул ей напомнить о верности, связать ее клятвою! О, как бы я желал еще хоть час побыть с нею, услышать ее обет верной, вечной любви, умолить хоть из жалости не изменять мне и, если суждено нам судьбою не видаться более, проститься с ней не равнодушным знакомцем, как это было в Плимуте, но страстным любовником, наедине, слить наши слезы и пламенным поцелуем запечатлеть пламенную любовь!»
Он вынул из кармана последние слова княгини, написанные карандашом на обороте карточки адреса лучшего трактира в местечке… (мы назовем его Ляйт-Боруг), куда сбиралась ехать сегодня же княгиня отдохнуть вдалеке от шуму и пыли, покуда сошьют ей в Плимуте английский костюм. Ей так расхвалили здоровое местоположение и живописные окрестности этого Ляйт-Боруга… ей так необходимо поправить свою слабую грудь после морского путешествия. Князь приедет за нею дня через три, и вместе отправятся в Лондон; и теперь княгиня должна быть уже там, и его фрегат против самого Ляйт-Боруга, и до берега не более двух миль! Все это пришло вдруг на память Правина. Он несколько раз поворачивал карточку, и каждое слово ее казалось ему чертами света, — они загорались подобно электрическому фейерверку от прикосновения проводника. Недоконченная речь: «Ангел мой, я твоя…» — принимала тысячу разных смыслов, и все они сходились к одному: свиданье или смерть! Для чего ж иного она хотела ехать в Ляйт-Боруг? Для чего иного написала свое таинственное посланье на карточке адреса?..