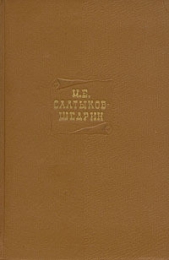Том 6. Статьи 1863-1864
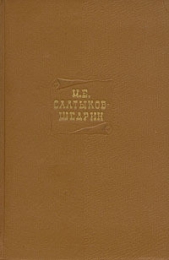
Том 6. Статьи 1863-1864 читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В шестой том настоящего издания входят публицистические произведения Салтыкова 1863–1864 гг.: хроникальное обозрение «Наша общественная жизнь»; тематически примыкающие к этому циклу статьи и очерки «Современные призраки», «Как кому угодно», «В деревне»; материалы журнальной полемики Салтыкова с «Русским словом» и «Эпохой».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Хорошо, я вам дам их; но надеюсь, что вы будете проводить мои идеи! — отвечает меценат, грациозно поматывая своей прозрачной головкой.
«Какие такие это идеи!» — секретно думает Ризположенский, но вслух вещает так: — Уж это само собой разумеется… тем более что наши идеи и ваши…
— Ну да, ну да, а то меня Бенескриптов однажды уж надул *…И если вы будете хорошо вести дело, будете проводить мои идеи, то я не ограничусь… я еще…
Ризположенский бледнеет и краснеет; у него, что называется, «от радости в зобу дыханье сперло» *. Он спешит откланяться, ибо опасается, чтоб меценат не раздумал, не обратил своих милостей на кого-нибудь другого, и вообще не перевершил своего великодушного решения (иногда и это случается).
— Петр! — говорит меценат своему камердинеру, — поди догони Ризположенского и поднеси ему рюмку водки!
Повторяю: это картина мрачная и потрясающая. Но я не о расслабленных меценатах намерен здесь говорить, но о тех настоящих русских меценатах, которые более или менее сопровождают каждого литератора в его земном странствовании с * первой минуты вступления на словесное поприще и до самой смерти. Таких меценатов, конечно, нельзя не любить, по той простой причине… ну, да просто потому, что их не любить невозможно. *
Итак, в начале уже нынешнего года один из моих многочисленных меценатов, встретивши * меня на улице, сказал мне:
— Друг мой! я должен сознаться, что иногда вы пишете очень… да, очень недурно!
Я расцвел.
— Да, недурно. Но за всем тем, я позволю себе одно, только одно дружеское замечание…
Я увял.
— Замечание, в сущности, очень неважное, но которое — не скрою от вас — не бесполезно было бы вам принять к надлежащему сведению. Я говорю насчет общего тона ваших статей.
Меценат смотрел * на меня в одно и то же время и добродушно, и проницательно. Я чувствовал, что он меня порицает, но вместе с тем не прочь и простить.
— И если бы вы взяли на себя труд несколько понизить этот тон, то нет сомнения, что сочинения ваши читались бы с гораздо большею приятностью. Вы, конечно, понимаете меня?
Я не понимал ничего, но, однако, отвечал, что понимаю.
— Как человек умный — вы видите, я отдаю полную справедливость вашим достоинствам, — итак, как человек умный, повторяю я, вы, конечно, найдете средства, каким образом устроить это дело…
При этих словах меценат пожал мне руку. Я расцвел вновь. * Я чувствовал, что сердце мое тает и что хоть я ничего еще не понимаю, но исполнить могу. Я во весь дух побежал домой, чтобы немедленно же начать целый ряд статей под названием: «Делай со мной что угодно».
Однако через несколько минут я образумился. «Что же буду я исполнять, коли ничего не понимаю?» — спросил я самого себя и для разъяснения своих сомнений направился к одному приятелю, который преподает реторику в одном из кадетских корпусов и, следовательно, должен быть по этой части сведущ. Я застал его сидящим в нетопленной комнате и грызущим окаменелую колбасу.
— Скажи мне, друг Антроп *! что разумеет реторика под именем «понижения тона»? — спросил я его.
— Под именем «понижения тона», — отвечал мой друг, — реторика разумеет такое оного ограничение, которое, по наружности, хотя и не касается внутреннего содержания, послужившего поводом для словесного упражнения, но на деле преестественнейше оное изменяет и претворяет.
— Exempli gratia? [49]
— Для примера, возьмем сейчас изложенное нами определение. Мы сказали, что «понижение тона» есть такое оного ограничение и т. д. Чем руководствовались мы, определяя таким образом эту замечательную фигуру? Очевидно, мы руководствовались при этом сею же самою фигурою. Мы употребили слово «ограничение», а не «окаплунение», например, несмотря на то что это последнее выражение, быть может, даже преимущественно перед прочими предмету нашей речи соответствовать могло бы.
— Но какие же могут быть последствия такого понижения тона? и кто от этого что бы то ни было выигрывает?
— А никаких других последствий из этого проистечь не может, кроме того, весьма важного, что фигура «понижения тона» будет в точности соблюдена.
— Антроп! ты пьян!
— Уже три дня ничего не имел во рту, кроме этой колбасы.
— Но помилуй, какой же есть смысл в твоем определении? кому какое дело, то или другое слово я употребляю для выражения моей мысли? Ведь важна сущность моей мысли, а не случайная оболочка ее!
— Поди посмотри в «тетрадке», коли не веришь!..
Я последовал его совету и справился с «тетрадками». Действительно, там было слово в слово записано то самое определение, которое я только что выслушал из уст Антропа.
Разумеется, это определение удовлетворило меня лишь в посредственной степени, и потому я отправился за разъяснениями к одному опытному литератору, который по старости лет хотя уже не занимается литературою пристально, но изредка еще пописывает антикварско-библиографические фельетоны * для воскресных прибавлений «Московских ведомостей».
— Михаил Логгинович! вы тридцать лет сряду держите в руках своих меч российской словесности; вы должны знать, что следует разуметь в литературе под именем «понижения тона»? — сказал я ему.
— Увы! это изобретение времен новейших, — отвечал он мне. — В наше время «понижения тона» не существовало, по той причине, что возвышения оного не было.
— Однако существовал же и в ваше время какой-нибудь тон в литературе?
— Был тон любезный. Литература в наше время приглашала читателя насладиться и возбуждала в нем тихое чувство благодарности. От неприятных зрелищ отклоняла, требования * предъявлять не советовала и, не рассевая заблуждений (как ныне), направляла умы и сердца к предметам достойным вероятия и рекомендуемым людьми опытными и нарочито уполномоченными. В настоящее время этот любезный тон сохранился лишь в воскресных прибавлениях «Московских ведомостей». *
— Но позвольте; я сам убедился, что «понижение тона» существует, что оно возведено даже на степень реторического правила; одним словом, я видел его записанным в тетрадке у Антропа…
— Антроп человек новый; к тому же он получил воспитание в семинарии, и потому с жадностью заносит в свои тетрадки все лжеучения, порожденные современностью.
— Однако что бы вы разумели, хотя приблизительно, под этим выражением, если б вам подобный вопрос предложило начальство?
— Приблизительно, я полагал бы возможным определить его так: «понижение тона» есть такое оного ограничение, которое, по наружности, хотя и не касается внутреннего содержания, послужившего поводом для словесного упражнения, но на деле пресущественнейше оное изменяет и претворяет.
— Представьте себе, это точь-в-точь то самое определение, которое сказал мне Антроп!
— Я с Антропом не вижусь, и даже его опасаюсь!
— Но как хотите, а это определение непонятно.
— Оно непонятно лишь по видимости, но как скоро вы начнете применять его на практике, то почувствуете немедленно, как легко и просто разъясняются иногда вещи самые запутанные. Одним словом, это то самое правило, которое так метко выражено и старинною русскою пословицей «по Сеньке и шапка».