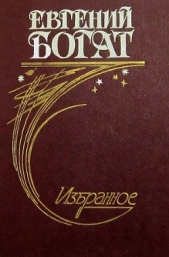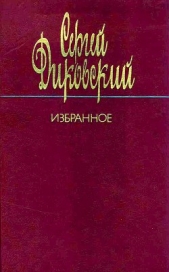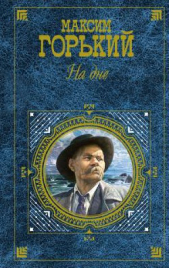«Я почему-то должен рассказать о том...»: Избранное

«Я почему-то должен рассказать о том...»: Избранное читать книгу онлайн
Высоко ценимый современниками Карл Карлович Гершельман (1899–1951), русский эмигрант, проживавший в Эстонии и Германии, почти неизвестен читателю дней. Между тем это был разносторонне талантливый человек — литератор и художник, с успехом выступавший как поэт, прозаик, драматург, критик, автор философских эссе, график и акварелист. В книге, которую Вы держите в руках, впервые собраны под одним переплетом стихи, миниатюры, рассказы, пьесы, эссе, литературно-критические и историко-литературные статьи К. К. Гершельмана, как ранее публиковавшиеся на страницах давно ставших раритетами газет и журналов, так и до сих неопубликованные (печатаются по автографам, хранящимся в архиве писателя).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
***
«Тайная свобода» в корне отрицает возможность какого бы то ни было «заказа» (социального или какого-либо другого). Заказ делает творчество излишним, он предопределяет заранее, что именно должно быть сказано; при заказе поэт говорит не свое, для слушателя неожиданное, а чужое, по существу уже известное, т. е. ненужное. При заказе нет творчества, а есть только подтверждение, повторение. Искусство же в силах не только подтверждать и популяризировать старые, но и открывать новые ценности. Поэтому ограничивать искусство заказом значит заведомо суживать его поле действия, ставить ему границы. Искусство (во всяком случае, первокачественное) — сила ведущая, а не служащая. Вернее, его служение в том и заключается, что оно ведет.
***
Гений — не лист на дереве жизни, а его цветок; не средство, а цель исторического процесса. Гений — это то, чем народ оправдывает свое существование перед другими народами, это подарок народа остальному человечеству. В гении народ проявляет, расходует себя, а не питает. Народ служит гению, а не гений — народу, как мать служит ребенку, а не ребенок — матери.
***
«Тайная свобода» не только исключает всякий заказ, но исключает сякую тенденцию: «писать бодро», «описывать положительные типы и явления», «быть оптимистом» и т. п. Если бы Шопенгауэру предложили создать систему оптимистической философии, то не было бы Шопенгауэра. «Положительные типы», которых критика и общество требовали от Гоголя, свели его в могилу. Если поэт видит в мире смерть и распад, а не рост и процветание, мне же кажется это неправильным, то я должен противопоставить его поэзии свою поэзию, его философии свою философию, но не закрывать для него на этом основании страницы моего журнала. Это-то как раз в нем и интересно. Что он говорит не то, что я.
***
Пушкин воспринял всю поэтическую культуру века, сполна сохранив свою самобытность. Он у всех учился, никому не подражая. Он всегда остается хозяином положения, сохраняет способность трезвого выбора. Это тоже «тайная свобода»: не бояться влияний и никогда не отдаваться им слепо; брать нужное, отвергнуть ненужное; как угодно перерабатывать взятое. «Тайная свобода» — это писать все, что хочу, что нравится, что люблю, не боясь ни банальности, ни одиночества.
***
Понятие «тайной свободы» может быть расширено из области эстетической в область этическую. «Тайная свобода» — не только верность своему художественному, но и верность своему человеческому лицу. «Ты сам свой высший суд» применимо как в искусстве, таки в жизни. И там, и здесь «тайная свобода» означает конечную независимость личности от всего внешнего: результат действия может не соответствовать желанию человека, но само действие всегда соответствует его желанию, если он только в полной мере правдив. «Тайная свобода» есть господство внутреннего над внешним, «совести» над «законом». Она охотно подчиняется закону, пока чувствует его правоту, но не боится действовать помимо закона при его недостаточности. Пушкинская Татьяна в одном случае нарушает «закон» — первая открывается Онегину в любви, и в другом случае подчиняется «закону» — отказывается изменить мужу. В обоих случаях ею руководит только чуткий нравственный вкус: в первом случае ее поступок ничего не затрагивает, кроме ряда пустых условностей, на карту ставится только ее собственное доброе имя: во втором — от ее решения зависит счастье и честь другого человека — ее мужа.
***
Свобода и долг не стоят в противоречии: долг есть дисциплинированная свобода, свобода, переставшая быть мимолетным капризом, ставшая твердой длительной волей.
***
Высший нравственный долг поэта — осуществление его призвания: но все же «тайная свобода» автономна, и в этом отношении сущность человека шире призвания. Призвание для человека, а не человек для призвания, — лучше «зарыть талант», чем зарыть себя под талантом.
Что выше — стихи, семья, честь? Здесь не может быть правила, все решается «тайной свободой», от ее чуткости зависит верность или неверность пути. Немыслимый случай, чтобы Пушкин отказался от дуэли, ссылаясь на недописанные стихи; и настолько же немыслимый — чтобы из любви к жене он изменил хотя бы одну строчку стихов. Пушкин мог забывать жену для стихов и стихи для жены и в обоих случаях оставаться правым.
***
Но все-таки смысл и оправдание жизни Пушкина — его стихи, а не жена, не дети, не дуэль. Пушкин, в противоположность Толстому, чужд стремлению к нравственному самоусовершенствованию (в теософско-моралистическом смысле).
Это сказано без малейшего «раскаянья» или желания «исправиться». Поэт оправдывается другим — самоотверженной готовностью немедленно подчиниться «божественному глаголу», как только последний прозвучит:
Оправдание поэта в творческом напряжении. Бог хочет знать, каков простой, средний, грешный человек и каким видит он созданный Богом мир. Поэт вглядывается в себя, вглядывается в мир и, не мудрствуя лукаво, прямо и честно Богу об этом рассказывает.
***
Подход к искусству, особенно к литературе, как к пророческому и даже религиозному служению был до революции настолько распространен в России, что казался многим само собой разумеющимся. В действительности, это не было так: Западу, например, такое воззрение было чуждо. На Западе смотрели и смотрят на профессию писателя как на всякую другую: перед тем, как избрать ее, взвешивают материальные возможности и материальные перспективы, учитывают свои силы и склонности, приобретают соответствующее образование и т. д. Подход к искусству как к священнослужению — чисто русская традиция: так подходили к нему все наши классики; драма Гоголя и Толстого, самый их отказ от художественного творчества обусловлен чрезмерно высокими требованиями, предъявлявшимися обществом писателю и писателей самому себе. После революции точка зрения на этот вопрос изменилась «На писателя смотрят у нас как на жреца, — писал после революции один русский критик, — или как на дармоеда, смотря по настроению. Революции ни жрецы, ни дармоеды не нужны». Однако восстановление этой традиции было бы очень желательно. Среди продажной, близорукой, жадной, тупо корыстолюбивой современности традиция творческой честности (хотя бы простой профессиональной порядочности) была бы чрезвычайно ценна.
Заметки о Пушкине [183]
В этих заметках едва ли сказано о Пушкине что-нибудь новое. В большинстве из них общепринятые представления утверждаются как правильные. Но стремиться к тому, чтобы непременно высказать взгляды, противоположные общепринятым, было бы предвзятостью. Важно подходить к предмету исследования непредубежденно. Не надо стараться говорить новое или старое, а надо стараться говорить верное. Не надо говорить новое, а надо говорить заново.
***
Не только в творчестве, но и в жизни Пушкин есть гениальность. И его стихи, и его жизнь гениальны одним и тем же: своей особой парящей легкостью. Это легкость, проистекающая не из отсутствия внутреннего веса, а из соразмерности тяжести с движущей ее силой.