Колокола
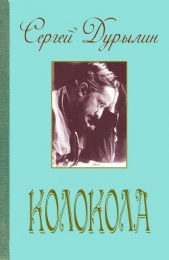
Колокола читать книгу онлайн
Написанная в годы гонений на Русскую Православную Церковь, обращенная к читателю верующему, художественная проза С.Н.Дурылина не могла быть издана ни в советское, ни в постперестроечное время. Читатель впервые обретает возможность познакомиться с писателем, чье имя и творчество полноправно стоят рядом с И.Шмелевым, М.Пришвиным и другими представителями русской литературы первой половины ХХ в., чьи произведения по идеологическим причинам увидели свет лишь спустя многие десятилетия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да, что вы, очумели! — крикнул Василий. — Да я сторожа склúчу! С лестницы спустит!
Парень с серьгой перестал звонить, подошел к Василью и, улыбаясь во все свое свеже-тесовое, розовое лицо, сказал?
— Да что ты, дядя Василий, разве ничего не знаешь?
— А что мне знать?
— А то, что царя сверзили…
— Да ты…
— Капут, дядя! С всероссийской лестницы спустили: с верхнего яруса в нижний! Оттого и звоним! С радости! Эх! — отбежал парень от Василья к колоколу: — Валяй! Держись! Дили-дон! Царям разгон!
И зазвонил изо всей мочи в Разбойный.
Колокола, — как толпа на площади, — шумели и гомонили безудержным, буйным перебоем.
4.
Дни пошли за днями, — и звон за звоном: Великопостный перезвон перерывался радостным Благовещенским благовестом.
Еле-еле поднялся на колокольню Серафим Иваныч, но поднялся с клеткой с двумя перезимовавшими чижами. Как всегда, он порадовался на весну, охватившую зеленым кругом поля и леса и, вопреки воле людей, включившую, в этот круг грязный, хмурый Темьян, — как всегда, выпустил дрожащими руками птиц на волю, и пожелал им вслед, как всегда:
— От человечьих рук ёмких летите подале, пернатые!
Но от слабости и старости он не мог уже звонить, — и, присев на трехногую скамейку, молча слушал благовещенский благовест и щебет птиц.
— Летит! — воскликнул он, отирая глаза, когда Василий подошел к нему, кончив благовест. Тогда стал слышен птичий щебет над колоколами и домоседливое гулькание голубей.
— Что летит? — не понял Василий. — Много птицы летит. Журавли — слышу поутру, — заблаговестили в небе.
— Нет, не птица, — промолвил тихо расстрига, — звон летит… И вот что ты мне скажи, Василий Дементьич, — что я слышу: не только, будто летит, но и улетает… Никогда этого со мной не было: слушаю благовест — любимый, благовещенский, — а не слышу в нем, как прежде: «Благовествуй земле радость велию!»: будто весь звон не над землею стелится, не к земле льнет, как всегда в этот день было, а весь в небо белым паром, шапкой белой, поднимается… И земли будто нисколько не зацепляет. К чему это? а? Верно, я скоро умру.
— Все умрем, — сумрачно отозвался Василий — и подсел к распопу. — Скамейка скрипнула и покосилась под ними. — Я под утро встал сегодня, — на перилах мертвого голубя нашел. Сколько лет живу, не бывало это, чтоб в Благовещенье мертвую птицу видеть. В птичью волю — и мертвую!
Но улыбался ему в лицо расстрига, подвигал морщинками под карими, посветлевшими под старость глазами, и сказал твердо:
— Ты, еже сееши, не оживет, аще не умрет!
Поник головою и помолчал, а потом опять посмотрел на Василья с улыбкой, играющей какою-то детскою игрой, и молвил тихо:
— Сеет Господь души, сеет Господь тварь, сеет Господь народы по земле, — и все семена посеянные умирают, так положено: все и оживут, каждое в свое время. Знает Сеятель сеять, знает в землю хоронить, знает и оживлять!
Подошел к перилам, слабый, почти шатающийся на юровом ветру, в ватном стеганом халатике горохового цвета, оглянул долгим взором далекий темьянский весенний окоем, и сказал:
— Покóй сердце свое — на покое земном. Смотри: все в покое, все Сеятелю покорно, — и как прекрасно опять засеял он семя свое. В шестидесятый раз, — как себя помню — озираю его сев — и не налюбуюсь! Хорош хозяин: лукошко ёмко, зерно отборно, рука верна! Сев идет спорой. — Он опять повернулся лицом к окоему и смотрел, не отрываясь. Потом подошел к Василью и сказал:
— И все будто кверху идет, — будто улетает… Это земля, значит, держать меня больше не хочет, душу из тела отпускает, а тело к себе тянет. Пора. По грехам давно пора лежать в домовине. Червячок-землячок заждался меня.
— Подождет, — сказал, усмехнувшись, Василий.
— Нет, видно, ему ждать надоело. Поторапливает.
Распоп запахнул поплотнее свой халатик и протянул руку Василью, но отнял ее тотчас же, пока тот не коснулся ее рукой, и сам же на себя поворчал:
— Рука — бирýка: все гребет, все грабáстает, все деет, а уста, в уста немножко почище… Устами попрощаюсь с тобой.
Он трижды поцеловался с Васильем и поплелся с колокольни.
— Не жилец! — подумал ему вслед Василий.
На Страстной не приходил, как бывало, ладить иллюминацию старый Гриша: он лежал на кладбище. Иллюминацию мастерили звонари, и она вышла тусклая и хмурая. Резкий ветер задувал фонарики. Бенгальские огни отсырели — и горели вяло и блекло, через силу. Гришу помянули добрым словом, — и кто-то из бывших на колокольне домекнулся про него:
— Какую, чай, теперь иллюминацию видит!
— Не видит еще, — сказал Пенкин, — по мытарствам еще не прошел. Мытарствует душа до шести недель.
— Так ужель для Христова Воскресенья ослабы не бывает?
— Бывает, — ответил Хлебопеков. — Уповательно, бывает, ослаба, но светлость небесная незрима: во тьме воздушной ослаба бывает.
На Светлой неделе звонили, как всегда, целые дни, только шумнее, беспорядочней, вольней. Рабочих от Ходунова не было. Звонили подростки.
Весною Василий болел. Звонили прихожие звонари, и звон его не радовал. Звонили коротко, со скукою, и звон не расцветал пышным цветком, а вянул слабым, еле зазеленевшим ростком. В последние месяцы Василий избегал говорить с молодыми: почти от каждого он слышал что-нибудь новое, непонятное и всегда чужое; ни расспрашивать о новом, ни спорить с непонятным и чужим ему не хотелось. Случалось, ему приносили новые газеты, листки, но он их не читал.
Однажды зашел на колокольню Уткин. Он был трезв, в новом рыжем френче, с подстриженным затылком. Василий лежал на постели. Уткин поздоровался, присел к нему на постель и, протянув пук дешевых иллюстрированных журнальчиков, сказал с полуусмешкой:
— Звонишь все, Василий Дементьич, — а посмотри-ка, что жизнь вызванивает.
Он развернул журнальчик и показал Василью картинку, изображавшую многотысячную демонстрацию:
— Смотри: совсем другой звон идет!
— Какой же? — спросил Василий, взглянув на картинку.
— Красный.
Василью не мóжилось. Он закрыл глаза и полежал минуту, молча. Уткин протянул ему другой журнальчик.
— Глянь, какой красный звон по бывшей Империи Российской пошел. Жизнь новéет. Красным звоном звенит.
Василий открыл глаза:
— Жизнь новая, да глаза у меня старые, и новых глазовщикý не закажешь. Пожалуй, старыми глазами глядя, в новом-то одно старое увидишь. Лучше уж не смотреть.
Уткин закрыл журнальчик.
— Жизнь новая, — повторил он Васильевы слова, — помолчал и отбросил журнальчик на стол. — Старое на льдине уплыло, и, говорят, нам с тобой, Василий Дементьич, горевать о нем не следует.
— Я не горюю, — ответил Василий, и сел на постель. — Я свое отгоревал давно. Сам свою льдину поджидаю, на которой мне уплывать.
— Это верно: льдины наши с тобой близко, и никто их нам не подновит.
Уткин сгреб журналы и, вынув часы, сказал:
— Половина второго. Пролетариат мой домашний проголодался. Идти надо. — Опуская часы в карман френча, вдруг засмеялся.
— Чему ты? — спросил Василий.
— Хлопчик, аптекарь, но он же и часы чинит. Высокая приспособляемость пролетариата. Я отдаю ему часы для починки, а он мне: «Любители вы, гражданин Уткин, звон?» — «Я, говорю, вас не понимаю, гражданин Хлопчик. Какой звон?» — «Церковный, — отвечает, — я его очень люблю». — «А это, говорю, удивительно: вы — гражданин iудей, — и звон!» — «Это, говорит, музыка, — и при чем тут iудей? Музыку может любить всякий: вы, я, еврей, русский, негр. Каждый имеет любовь к музыке. И ввиду нового строя, нельзя ли мне позвонить?» — «Как, спрашиваю, позвонить, гражданин Хлопичк?» — «В колокола на колокольне». — «Но, повторяю, гражданин Хлопчик, вы же еврей…» — «И при чем тут еврей? Колокола же — это музыка, я же музыкален. Я играю не скрипке. Но скрипка — это скрипка, и не более, а колокола — это воздушный оркестр. Ах, говорит, господин Уткин, я всю жизнь слушал колокола, и всю жизнь мечтал, что я поиграю на колоколах». — «Но, евреям, говорю, это не допускается». — Теперь же, говорит, свобода, и я всю жизнь об этом мечтал. Колокола же — это музыка». Пустишь, что ли, жидка позвонить?


























