Сумерки божков
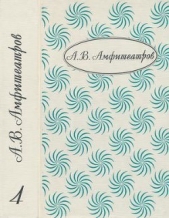
Сумерки божков читать книгу онлайн
В четвертый том вошел роман «Сумерки божков» (1908), документальной основой которого послужили реальные события в артистическом мире Москвы и Петербурга. В персонажах романа узнавали Ф. И. Шаляпина и М. Горького (Берлога), С И. Морозова (Хлебенный) и др.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Между седобородым Кереметевым и худым, длинным, похожим на Дон Кихота в старости, декоратором Поджио, Елена Сергеевна, в черном платье своем, казалась какою-то темною феей на совете с двумя дряхлыми колдунами. Влюбленный без памяти в свое искусство, Поджио широко таращил мистические черные глаза, водил длинными костлявыми руками перед самым лицом директрисы и бормотал пещерным, сиплым голосом, выдававшим старость, гораздо более глубокую, чем показывали черные волосы, колючие усы и мефистофельская эспаньолка: [294]
— Взгляните, достоуважаемая: на генеральной репетиции вы нашли, что монастырский двор слишком ярок… Нет, многоуважаемая, это не двор ярок, а задний план с горами был темен… да-с! Я ошибся номером света… Взгляните: сегодня — совсем другое впечатление. Хотя на дворе выдержан тот же самый тон, но для гор я нашел новые фиолетовые стекла, бледнее прежних, — и гармония получилась полнейшая… Неправда ли, высокочтимая, ведь вы желали именно так?
Елена Сергеевна глядела на расстилавшиеся пред ее глазами пятна — лиловые, синие, темно-красные, желтые, как золото, бледно-палевые, как слоновая кость, — на полотнища темной, почти черной зелени, с глубоким синим небом вверху, и привычным глазом угадывала в этих пятнах колонны, двор, цистерну — chiostro [295] итальянского монастыря, резные двери собора, слюдяные окна келий, черепичные кровли, зеленые горные побеги к небу, пасти ущелий, сонные туманы и плывущие облака…
— Хо-хо-хо-хо! Сожжет, многоуважаемая, публику солнцем, опалит ее наш Эдуард Фомич! — суетился и прыгал, шмыгая за кулисы и из-за кулис, совсем захлопотавшийся Мешканов. Бас Фюрст в лиловом полукафтане и с злодейским гримом кардинала Раньери возразил ему, кося глаза, тупо-суровые от привычки к мрачным и злобным ролям:
— Ты сперва нас рожей своей не опали. Она у тебя сегодня — пожар: сбор всех частей и при личном присутствии полицеймейстера!
Действительно, бедняга, замотавшись в хлопотах, был красен как рак, горяч, как печь, и мокрее мыши: лысина его даже дымилась как будто… Берлога стоял в первой кулисе, опершись на мотыку, с которою ему предстояло выйти на сцену: в первом акте «Крестьянской войны» Фра Дольчино скрывается под видом садовника в женском монастыре, где заключена как послушница Маргарита из Тренто. Он был нервный и хмурый, но, завидев издали Елену Сергеевну, просиял, сунул свою мотыку ближнему хористу и быстро зашагал навстречу Савицкой, протягивая обе руки.
— Как это хорошо с твоей стороны, что ты пришла, — заговорил он тихо, сердечно, тепло, — я так боялся, что ты не придешь… и так благодарен тебе теперь!
Савицкая возразила тоже тихо и — бесстрастно:
— Как же я могла бы не прийти, когда идет впервые новая опера? Полагаю, что я немножко заинтересована тут. Я — директриса театра.
Берлога страдальчески сморщился.
— Нет, нет. Не говори так безразлично. Я ведь все равно не поверю тебе… Не надо директрисы! Пришла потому, что ты великодушная, потому что ты — друг…
Савицкая спокойно остановила его:
— Не надо так много об этом.
Берлога внимательно оглядел ее.
— Ты чертовски красива сегодня, — сказал он, — но у тебя усталое лицо…
В голосе его звучали совестливые ноты. Елена Сергеевна чутко поймала их и улыбнулась.
— Можешь успокоиться: устала не душою, но телом. Власти предержащие мучили весь день. То генерал-губернатор, то полицеймейстер…
— Да, да, да! — заторопился, заволновался артист, — ну чем же ты кончила с ними? ну что же? ну как же? Расскажи.
Елена Сергеевна коротко и сухо передала ему свой разговор с генерал-губернатором.
Берлога даже побледнел под красками.
— Однако… черт побери! Угощают же нас!.. Черт побери! Что же это? Выходит, что нас посадили под куст, как щедринский волк — виноватых зайцев: может быть, растерзают, а может быть, и помилуют? [296]
Елена Сергеевна пожала плечами.
— Да неужели же, Леля, мы старались и работали только для одного спектакля?
— Увидим…
Берлога тяжело перевел дыхание.
— Ну!.. — вскрикнул он, засверкал глазами и потряс кулаком. — Ну если так… держись же! Покажу я себя им сегодня!.. Хоть в Сибирь потом, а помнить будут!.. Погибни, душа моя, с филистимлянами! [297]
Елена Сергеевна промолчала.
— А ведь это — собственно говоря, против правил, уважаемая… хо-хо-хо! — льстиво и вкрадчиво, но все-таки со звуком выговора в голосе вмешался прислушавшийся Мешканов. — Собственные свои правила нарушает наша милая директриса… да-с!.. Разве можно артисту пред выходом на сцену сообщать неприятные известия? Да еще в новой партии? Ай-ай-ай!
— Пустяки!.. — хмуро отмахнулся от него сильно призадумавшийся Берлога. — Не слабенький я… не из таковских!
— Знаю, что вы не из таковских, — хо-хо-хо! — да порядок-то у нас таковский… хо-хо-хо-хо… субординация того требует!.. Вон — посмотрите: у Риммера в сюртуке карман отдулся, точно он свистнул кассу за все пять спектаклей… хо-хо-хо-хо!..
— Сам не свистни, — улыбнулся Риммер, — а мне не расчет. Я опта придерживаюсь, в розницу не ворую. Уж если украду, все голые останетесь, а по мелочам не стоит мараться.
— Хо-хо-хо-хо!.. А знаете, что у него в кармане? Письма! У нас с ним договор: чтобы ни одного письма, в театр приходящего на имя артистов, занятых в спектакле, не передавать раньше, чем кончит партию… Хо-хо-хо!..
— Да я давно завел это, многоуважаемая, — важно подтвердил, обсасывая золотой набалдашник своей палки, магоподобный Кереметев. — Необходимо. Потому что, ангел мой, — черт его знает, что ему могут в письме писать? Письма, сокровище вы наше, разные бывают. От иного письма у человека, пожалуй, сразу и голос пропадет, и язык прилипнет к гортани… Ты — что крякаешь, Фюрст?
— Вспомнил, как ты утешил меня — в «Севильском цирюльнике» семь лет назад этим самым милым правилом вашим о письмах…[298] Помнишь, Андрей? У меня батька ударом помер… Прислуга прибегает из дома с запискою от жены, а это чучело немецкое, — он важно, широким жестом ткнул пальцем в ухмыляющегося Риммера, — записку себе в карман, а прислугу — из театра в шею… Жена ждала-пождала, не вытерпела, жутко ей одной в квартире с покойником. Тоже прибежала за мною, да прямо и угодила вот на этого соколика…
Фюрст перевел свой грозный палец на Кереметева. Тот закивал своею черною шапочкою любезно и самодовольно:
— Было, было…
— Захар бабу мою, конечно, только что не в объятия принял, но — так и проморил ее битый час в конторе. Тары-бары, ахи-вздохи… уж он ей сочувствовал-сочувствовал, уж он с нею плакал-плакал, уж он сморкался-сморкался!.. Ну и — ни-ни! Не допустил ко мне — до последнего занавеса. Как услыхал по музыке, что финал, так и вздыхать перестал, и платок в карман спрятал. Да еще и выговор жене читает: «Что же, — говорит, — вы со мною время теряете? Спешите к вашему супругу… Он теперь сирота… Ужасно! ужасно! такая внезапная потеря! ах какая несчастная весть!» Да-с! Так — по милости вашей, голубчики, и ломался я доном Базилио каким-то глупейшим в то время, как — через улицу перебежать — моего отца обмывали и на стол клали…
— Публика, добрейший мой, не виновата, что твой отец вздумал умирать в тот вечер, когда ты был занят в Базилио, — с убеждением и свысока возразил Кереметев, и Риммер одобрительно ему поддакнул. — Если бы знать перед спектаклем, я заменил бы тебя, ангела, другим артистом, хотя и терпеть того не могу, сокровище мое. А выпускать на сцену певца расстроенным или больным… слуга покорный! Еще не прикажете ли анонсы делать? «Господин Фюрст просит у публики снисхождения по случаю постигшего его семейного несчастия»?.. Чтобы публика дирекцию зверями считала: ах, бедный! в каком состоянии эти изверги заставляют его петь!.. Нет; брат! Служить искусству так служить. Раз уже надел ты костюм и вышел на эти подмостки, — Кереметев красиво топнул ногою, — раз тебя осветила рампа, — кончено: отрезан от мира, все там — по ту сторону оркестра и за кулисами — для тебя чужое. Да! На сцене для актера нет ни отцов, ни сыновей, ни жен, ни любовниц, ни горя, ни радости, ни несчастья, ни смерти. Есть только роль и публика.
























