Сумерки божков
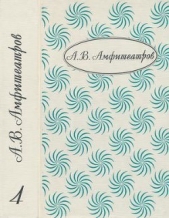
Сумерки божков читать книгу онлайн
В четвертый том вошел роман «Сумерки божков» (1908), документальной основой которого послужили реальные события в артистическом мире Москвы и Петербурга. В персонажах романа узнавали Ф. И. Шаляпина и М. Горького (Берлога), С И. Морозова (Хлебенный) и др.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— La gente paga е vuol si divertir! [299]— запел Мешканов из «Паяцев».
Елена Сергеевна серьезно возразила:
— Человек, который поет эти слова, однако, зарезал на сцене свою неверную жену. [300]
— И не имел на то никакого артистического права! — возопил Кереметев. — И нарушил тем все свои обязанности к театру. Если хочешь резать жену, то можешь произвести эту милую операцию дома…
Фюрст перебил:
— Прислав предварительно записку главному режиссеру Кереметеву: «Прошу не занимать меня на этой неделе в репертуаре по случаю нервного расстройства, испытываемого мною ввиду намерения убить свою жену…»
— Смейся, смейся. Ride, pagliaccio! [301] Теперь ругаешься, а тогда сам же благодарил…
— Я — покладистый. Легкие мы люди. У кого из нас характер есть? А вот жена моя — та до сих пор помнит, как ты ее маял… не простила. Строгая она у меня…
— Есть зубок, есть! — даже самодовольно заулыбался Кереметев. — Женщина — всегда женщина…
— Хо-хо-хо-хо… «сказал великий Шекспир — и совершенно справедливо!..» — грохнул Мешканов…
Берлога задумчиво обратился к Елене Сергеевне.
— Знаешь? Кереметев и Мешканов правы… Ты этого, что нам рассказала, не говори Нордману… что его приводить в отчаяние?
— А где он, кстати? — оглянулась по сцене Савицкая, — я не видала его… хочу пожать ему руку… пожелать успеха…
Все захохотали, а Берлога указал глазами на колосники.
— В кукушке. [302] На бедняге лица нет. Совсем больной, — трус этакий, — от страха. Я уже прогнал его со сцены, потому что он невозможен: прямо заражает нервностью. Глаза безумные, косицы эти его бледно-желтые повисли на самый нос, руки холодные, трясутся… точно его сейчас вешать будут!.. И каждую минуту за живот хватается…
Кереметев. Уж мы Машу, добрую душу, прикомандировали к нему. Она его малиною с ромом напоила.
Берлога. Б-р-р!
Кереметев. А теперь как нянька с ним возится, разговорить старается. Но, по всей вероятности, вотще…
Берлога. Авторская лихорадка, febris compositorialis! [303]
Мешканов. В полном разгаре и трепете!..
Кереметев. Эти авторы на первых представлениях — словно роженицы.
Берлога. Да, нашему брату скверно, а уж им — совсем невтерпеж.
Елена Сергеевна внимательно осмотрела Берлогу: он остался для первого действия оперы в своих волосах и почти со своим лицом. Белила и едва уловимые штрихи легкого грима помолодили и одухотворили его уже сорокалетние черты, изрядно помятые и театром, и буйною пестрою жизнью. По беспокойной игре мускулов под подвижною кожею, по живому, отвлеченному блеску глаз, окруженных тенями синей пудры, Елена Сергеевна поняла, что Берлога в большом ударе: успела она изучить его за пятнадцать лет!
— Ты превосходно сделал лицо, — сказала она ему спокойно и доброжелательно, — гораздо эффектнее, чем на репетиции. Боюсь тебя сглазить, но — от тебя дышит вдохновением!.. Я многого жду от тебя сегодня.
Он лишь погрозил опять кулаком на занавес:
— Разнесу!
Нежный, бледно-серый, в тонах gris de perle [304] зрительный зал, залитый мягким, ласкающим светом, с тем расчетом и строился в свое время, чтобы успокаивать и умиротворять удобством и красотою даже самых кислых, брюзгливых и раздражительных из числа публики — в России вообще вялой, скучной и геморроидальной. И кресла просторные и развалистые, и скамеечки под ногами, — мягко сидеть, мягко ногу поставить, мягко руку положить. Обаяние театрального комфорта сказалось и теперь. Возбужденная полицейскими придирками на подъезде публика, разместившись в мягкой обстановке, с спокойными красками пред глазами, среди спокойных шелестов и шуршаний по мягким коврам, успокоенная в зрении, слухе, осязании, быстро теряла свою злую нервность. На лицах зажигались улыбки, взгляды ласково искали знакомых, тона разговоров умягчались, мысль отрывалась от недавней напрасно претерпенной неприятности и обращалась к обычным, средним, приятным темам, к которым располагают зрелище и среда большого нарядного общества.
Зал был блестящий на редкость, как бывает только в самые большие праздники искусства. В партере и ложах собралось не только все, что было богатого, красивого, изящного в городе, — указывали приезжих из столиц, меломанов из Одессы, Киева, Варшавы. Юркие репортеры, стоя в проходах между местами, едва успевали записывать имена, которые газеты их должны завтра назвать au hasard [305]. Дама, ведущая в «Почтальоне» отдел мод, — по мере того как наполнялись ложа за ложею, обращаясь в выставочные витрины дорогих материй, кружев, брильянтов, артистических причесок, обнаженных плеч и, изредка, красивых лиц, — спешно стенографировала туалеты. В зале стоял рокочущий волновой гул густо вздымающегося по ярусам разговора. Верхи почти сплошь сверкали белыми и желтыми светлыми пуговицами молодежи. В проходе самого верхнего яруса на темном фоне студенческих мундиров ярко выделялась широким белым вырезом фрачного жилета могучая и как-то боевая, будто вызывающая, фигура Сергея Аристонова. Снизу давно заметили эту красивую голову на богатырских плечах. В двух смежных ложах бенуара, сияя почти идольским величием и великолепием, две московские титулованные коммерсантки-миллионщицы, знаменитые на всю Россию своим страстным покровительством искусствам вообще и артистам в особенности — княгиня Латвина, урожденная купеческая дочь Хромова, и графиня Оберталь, урожденная купеческая дочь Карасикова. И — даже эти избалованные полубогини-полуживотные, о которых Москва острила, будто они родились от помеси Мецената с Мессалиною, удостоили поднять бинокли свои на доброго русского молодца, так эффектно скрасившего демократические верха своею разбойничьей статью, и не опускали биноклей долго. [306] Всего же лучше оценила Сергея та странная, необычно темная публика, нашествием которой на верха так беспокоился, докладывая Елене Сергеевне, Риммер. Сергей нарочно поместился как раз вблизи двух таких подозрительных господ, не разобрать — то ли жуликов, то ли сыщиков: один — кучерявый, дремучий, черный, с огромною верхнею губой, другой — тощий, желтый, франтоватый, с наглыми белыми глазами. Ни тому ни другому близкое соседство Аристонова не доставляло, по-видимому, ни малейшего удовольствия. Черный жулик только сердито сопел и таращил глаза на занавес, но блондин сохранял на обглоданном лице своем выражение откровенного разочарования, будто — не терпелось ему свистнуть да примолвить: вот тебе, бабушка, и Юрьев день! А Сережка делал вид, будто совсем этих голубчиков не замечает; и лишь менял позы — одну другой молодцеватее, одну другой выразительнее, говорящие о силе, ловкости и привычке к боевым житейским переделкам.
Прозвонил сигнальный колокол. Двери замкнулись.
Еще гулкий благовест… Еще в третий раз… Свет погас.
Залом овладела напитанная тьмою тишина, полная любопытно-тревожной, ожидающей таинств, внимательной мысли и затаенных дыханий.
И вдруг — рухнуло.
На публику упал из тьмы обвал грома. И был его короткий грохот так огромно страшен, и такая пестрая могучесть прозвучала в его нестройном раскате, что многие в зале бес-покойно зашевелились на местах своих, охваченные мгновенным испугом, не обломился ли потолок.
Все ждали, а вышла все-таки внезапность.
Пауза. Мрак и тишина. Как легкий ветер, прошло по залу шуршание лепетов отдыхающего испуга, смеющегося или раздосадованного недоумения.
Еще обвал… Теперь уже все распознали в его падении визг и гудение струн и рев меди, — и никто не испугался, — но все широко открыли слух свой, — кто в строптивом негодовании, кто в покорном восторге, но все сразу в жадном любопытстве. Потому что еще не слыхано было от струн, дерева и меди подобного слития звуков, и никто раньше не думал, чтобы пение струны, дыхание дерева и вопль меди были способны к бешенству таких напряжений.
Тьма притаилась, чреватая озадаченными людьми. Ни одного кашля, ни одного чихания.
























