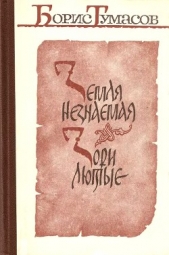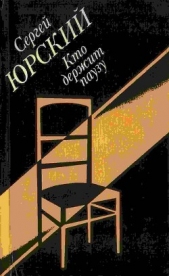Былина о Микуле Буяновиче

Былина о Микуле Буяновиче читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Это книжек начиталась ты! Я б, их дьяволов, всех изжег! Ей Богу!
Дуня не могла стерпеть и снова засмеялась, а Илья уже кричал:
— Ну чего тебе не достает, скажи на милость? Молодая, из себя пригожая… Замуж выходи и вот тебе печали никакой не будет.
— Да что ты? — лукаво прищурилась Дуня.
Илья принял это на свой счет и осмелел:
— Только, вот те, Истинный Христос: ежели ты за меня замуж выйдешь и хоть одну я книжку у тебя увижу, — изобью я тебя до полусмерти.
Дуня засмеялась громко, заразительно, а бабушка с печи промолвила баском:
— Эко похваляется. Не застрелил, а ужо оттеребил.
Между тем Дуня оправилась от смеха и нараспев сказала парню:
— Замуж я, Илья Иванович, ни за кого не выйду. И сама я знаю, што меня такую никому не нужно. А только с моими думушками я по гроб жизни не расстанусь. У меня, Илья Иванович, после книжек этих весь белый свет переменился. И никого-то мне не надо и ни к кому меня не манит, окромя… — она запнулась, помолчала и продолжала, говоря как бы сама с собою:
— Вот выйду я на огород свой летом, либо в поле и смотрю на свет Божий и вижу я Божьи чудеса, Илья Иванович. Отдыхаю я тамотко, и так-то ли мне хочется куда-нибудь в глушь, в пустыню, в келейку и там бы все молиться и смотреть бы на леса, да на поля, да на воду озерную либо на речную… Эх, Илья Иванович! Тебе смешки да шуточки, а я другой раз уйду на пашню, брожу промеж полос, а мне на ум такие-то задумные думушки приходят, што как будто не живу я, а летаю где-то высоко, высоко над белым светом.
Заслушавшаяся старуха свесила с печи руку и ткнула пальцем на Илью.
— Вот слушай да учися.
— И ты тоже! — огрызнулся парень и снова впился глазами в лицо Дуни.
А Дуня, устремивши взгляд куда-то в высоту, продолжала в полузабытье и на глазах ее блеснули слезы.
— И так мне станет славно, так радостно. И так-то я молюся Господу, што и сказать не сумею. И молюсь я просто, безмолвно и без слов и чую, будто што Господь-от тут возле меня близехонько стоит и всю душу мою видит.
Илья перебил Дуню сердито и ревниво:
— А чего же ты плачешь?
— А то и плачу, што люди благодати этой Божьей не чуют и не видят, а ежели появится какой человек понимающий дак все на него, как на злодея, либо как на дурочка…
Горько и вместе строго, задрожавшим голосом, прибавила:
— Скушно мне среди людей таких, тошнехонько и жаль мне их, несчастных, жалко всех до единого!
Вытирая слезы она стыдливо наклонилась над работой, а слезы падали темными кружками на новый розовый ситец и Дуня прятала их, все перемещала на коленях ситец, мяла его руками и не могла шить.
Задушевной теплотой пролился на нее с печи бабушкин басовитый голос:
— Всех не оплачешь, доченька, всех не спасешь. Мир велик, а горя людского — окиян бездонный. Не осушить его, не вычерпать. А с эких пор ежели обо всех будешь сокрушаться — где и слез-то набраться. Полно-ка, дитятко, будет плакать-то! Перестань!
А Дуня уже улыбалась и ответно утешала бабушку.
— Я плачу, бабонька, иной раз от радости. Пускай, думаю, меня не понимают, а мне так хорошо поплакать…
Летось иду на пашню, тятеньке обед несу, гляжу — пшеница дяди Митряя стеной стоит. Вижу уродил Бог Митрию за труд его, за бедность, за незлобивость: чистая, высокая, а колосья, как воробушки, так и летают друг подле дружки, с ветерком балуют. Зашла я в нее, стала на колени и ну молиться да плакать. Тебе вот, Илья Иванович, все смешно, а мне даже и нисколечко.
— А может быть на тебя тоска напущена? — сказал Илья с испугом.
Но Дуня продолжала тем же нежным, хрупким и волнующим голосом:
— Вспомнила я в ту-пор тятеньку, как он в тот день утром обутки свои веревочками перевязывал, а сам шутил. Маминьку-покойницу вспомнила, как она однова, незадолго перед смертью жала пшеницу, песню пела, а сама плакала…
От слез у Дуни снова задрожала в глазах свечка и голова склонилась низко над работой, но она справилась с собою, быстро вытерла глаза, выпрямилась, и голос ее стал упругим.
— Наплакалась я, встала, голова у меня даже разболелась. Вышла из пшеницы, а мимо полосы Пашка, Егора Тереньтича сын, верхом едет. И с таким соромным словом на меня: «с кем в чужой пшенице валялась?»
И плечи Дуни затряслись, упала голова на облокоченную о стол руку.
Долго молчал Илья, растроганный и кое-что понявший, а потом на Дуню же и закричал:
— А пошто все терпишь? Сказала бы мне. Я бы морду ему расхлестал всю до крови!
Дуня встала, высморкалась в фартук, обозлилась.
— Твоя мать и без того болтает, будто я твоя сударка!
— Мать? Моя? — вскрикнул Илья. — Да я за это дело и родную мать не пожалею…
Он даже встал с места и сжал кулак.
— Экой ты, Илья Иванович, нерассудный! — укрощая его гнев строго сказала Дуня, — Ты думаешь, что дракой людей на путь наставишь? А супроть матери даже и грех кулаками-то махать…
— А што же она? Меня она могет ругать сколь угодно, а про тебя напраслину я не дозволю!
И этот запальчивый крик парня теплой лаской прикоснулся к сердцу Дуни. Она опять смягчилась и снова заговорила нежным, тихим голосом:
— Не надо ни с кем шуметь из-за меня, Илья Иванович. Только славу дурную сделаешь… Над нами же смеяться будут.
— И пускай смеются! Мне тоже все равно…
Илья сел на прежнее место и проворчал сердито:
— Может я тоже печаль в себе имею да только высказать не хочу.
— А ты выскажи, улыбнулась ему Дуня.
— Смеяться станешь…
— Не стану, — протянула Дуня, а сама уже смеялась.
Даже бабушка Устинья обрадовалась этому девичьему смеху.
— Вот и мать ее такая же была. То тучкой ходит, плачет, а то вдруг позабудет все и соловейкой заливается — поет. Бывало Петрован-от перебьет ее на пашне — дикошарый был, ревнивый, — синяков насадит, а вечером поедут с пашни, заставит песни петь. Смотришь, она уж позабыла, уж поет. Эдак же вот засмеется, што твой колокольчик. Люди едет с пашни, думают: эк Петрован-от дружно с хозяйкой живет! Вот тебе и пожили… Тридцать лет едва стукнуло — отлетела голубка сизая… — голос бабушки Устиньи заскрипел, — Как травинка высохла. От жизни этой.
Дуня слушала старуху и сердце ее снова наполнялась тою песенной, заманчивой печалью, которую она еще тогда на полосе впервые услыхала из простых и незабываемых песен матери:
«Как у Дунюшки — много Думушки. Я куда-то с горя сподеваюся?»
И, забыв, что недавно плакала, но ярко-ярко чувствуя тот жаркий день у золотой стены пшеницы и запыленную, загорелую от солнца мать, Дуня тихим голосом припоминала мотив той песни и те самые слова:
«Я пойду-то, уйду во темны леса. Во темных-то лесах — течет реченька…»
Затихла бабушка на печке. Теплая улыбка заиграла на лице Ильи.
— Ты в леса и я за тобой! Зачнем мы там с тобой жить, поживать да добра наживать.
— Заблудимся мы с тобой, Илья Иванович.
Но Илье надоел печальный разговор и он решил развеселить чем-нибудь Дуню.
— Помню — лет тому двенадцать с тятенькой-покойничком кедровать мы ездили в Кузнецкие леса. Вот я набоялся то! Медведей там! Прямо, как коровы ходят.
Дуня звонко рассмеялась, а бабушка Устинья вытянула с печи голову.
— Чего он там опять сморозил?
Илья повысил голос:
— Бабушка Устинья! Вот ты долго живешь на свете: в Муромских лесах не бывала? В каких Илья-то Муромец жил. Помнишь, сказку-то прошлый раз нам сказывала?
— Не мели ты, безголовый, — сердито отозвалась бабушка, — Сказка дак она и есть тебе сказка.
Дуня тоже обернулась к бабушке, как к источнику разгадок:
— А я, бабонька, все думаю про то, как богатырь стоял у распутья трех дорог. Куда бы не поехал он, везде ему злосчастье… Отчего оно так, бабонька?
Бабушка вздохнула и, продолжая прясть, ответила:
— Так ему стало быть на роду написано.
— Как же так, бабонька: человек еще не родился и ничего еще не согрешил, а его уже злосчастье ждет?
— Так видно Богу надобно, дитятко…