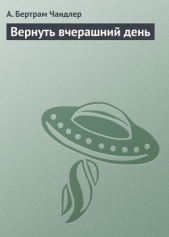Том 7. Мы и они

Том 7. Мы и они читать книгу онлайн
В 7-м томе впервые издающегося Собрания сочинений классика Серебряного века Зинаиды Гиппиус (1869–1945) публикуются ее книга «Литературный дневник» (1908) и малоизвестная публицистика 1899–1916 гг.: литературно-критические, мемуарные, политические статьи, очерки и рецензии, не входившие в книги.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В этот день добросердечная синьора велела сделать для девочек лишнее блюдо макарон, призвала Марию, беседовала с нею о приданом, о том, что пройдут два года, жених вернется из Америки, и Мария будет счастлива всю жизнь. Мария, розовая, свежая, не улыбаясь и не плача, слушала и смотрела на синьору своими длинными, карими, бездумными глазами. Потом девочки пошли есть, больше ничего не было. Мария прилежно шила приданое, складывая его аккуратно в сундук, который стоял в ее опрятной, светленькой комнате.
Вряд ли Мария когда-нибудь думала; мысли у нее – близкие и отдельные, точно у маленьких детей, – и все на поверхности. А там, в темной глубине, тихий и безмятежный сон, силы, не доходящие до сознания, неподвижные, молчаливые, как у яблони или ярких маков в траве.
Мария живет, не подозревая, что она красива, не связывая себя с окружающим или, вернее, не отделяя себя от него; улыбается, когда ей предстоит удовольствие в виде вкусного блюда или редкой прогулки в Таормину на «processione» [35], плачет, когда ей дают пощечины, делает аккуратно и проворно свое дело, боясь смутно тех же пощечин, никого особенно не любит, но никого и не ненавидит, – она очень добра. В ее обязанности, между прочим, входит резать для обеда домашних кур и петухов, и она это делает совершенно равнодушно, и ни разу ей не пришло в голову смутиться, или сделать неверный надрез, или вообще подумать и пожалеть петуха. С подругами она в прекрасных отношениях. Сицилианские девушки очень дружны, ссорятся редко и всегда готовы поддержать одна другую. Может быть, это происходит и от врожденной апатии, той неподвижной ясности, которой столько было в прекрасной Марии.
Погода испортилась с того самого дня, как мы переехали. Иногда с утра принимался лить дождь, сплошной, громкий, гулкий – так и лил не переставая, не уменьшаясь не изменяя звука, до глубокой ночи, до следующего утра. Утренние часы были еще лучше; умытая, льдистая, сверкающая Этна удостаивала показываться на полчаса, когда поднимались и таяли ночные туманы; на перилах, широких и низких, каменной террасы развертывали длинные, гнутые лепестки белые ирисы, которых был тут целый лес. Внутри цветка, где еще не высохла сырость и свежесть росы, пахло легко и странно;
у белых ирисов аромат заметнее, чем у лиловых, хотя и у них он особенный, полусуществующий и пыльный. За высокими стеблями, которые скрывали землю, тотчас же начиналось море, бледное в утренний час.
Иногда мы сходили вниз, в большой сад на склоне, без дорожек, с высокой, до плеч, травой, полной пестрых, диких цветов, с миндальными деревьями, которые уже покрылись маленькими, темными листьями. Сад кончался скалой и обрывом высоко над шоссе.
– Видите, говорила хозяйка, как теперь зелено и пышно. А в мае посмотрите на Таормину: все желтое, точно опаленное… Ни травинки, на деревьях ни листа…
– Как, уже в мае? И ни клочка зелени?
– Вот, кактусы остаются. Что им сделается! Но уже в конце мая нестерпимо жарко. Если сирокко дует часто весной, то зелень пропадает и раньше.
– Сирокко? Он был недавно. С неделю тому назад. Хозяйка улыбнулась.
– Разве это ветер? Нет, вы еще не испытали настоящей сицилианской бури. Они у нас в Таормине особенно сильны, потому что мы высокб.
С переездом на виллу мы простились с нашими отельными знакомыми, с юрким хозяином и с высокой столовой в восточном вкусе. Мы очутились за столом в Castello a mare, куда было от нашей виллы всего несколько шагов по шоссе. Castello a mare не любим англичанами: в нем нет ни reading-room'a [36], ни залы для разговоров. Стол с газетами стоит тут же, в одном конце длинной, белой и скучной столовой. За обедом царствовало уныние и тяжелое молчание. Больной, чахоточный немец, довольно молодой, лихорадочно и молча выбирал потемневшими руками кости из рыбы. Добрая, угнетенная англичанка с подвязанными розовой косынкой ушами от невралгии, ела отдельный суп из маленькой мисочки, блестела желтая лысина какого-то шотландца. Наш капризный спутник был доволен: молчание он любил, а здесь еще каждое кушанье обносили два раза.
Когда кончился обед, мы спешили выйти через одну из многочисленных дверей нашей тюрьмы в теплый, непроницаемый, как черный бархат, воздух. Кругом было так густо темно, что мы с трудом находили дорогу. Вверху, не давая света, медленно мерцали большие, неизвестные звезды.
Однажды, когда мы вышли на дорогу, нам показалось, что звезды мерцают особенно сильно, переливаются и гаснут точно задуваемые ветром. По сицилианской примете, звезды дрожат перед бурей. Ветер подувал, но не сильный. Море еще молчало. Опрокинутый, по обыкновению, месяц, у самого горизонта, то и дело скрывался за набегающими тонкими, черными облаками, часто разорванными, – и опять, когда пролетали облака, светил своим неярким, зеленоватым и неласковым светом, собираясь закатиться…
Когда мы пришли домой и запирали двери на террасу, мне почудилось на мгновенье, что кто-то рявкнул за дверью, и ставня на окне рванулась с коротким звуком.
Мы удивились и прислушались. Но все было тихо.
В продолжение вечера чувствовалось однако невольное стеснение, тяжесть и ожидание, как перед грозой. Часов в десять начался далекий, густой, еще тихий гул. Это море просыпалось. Мы легли. Не знаю, сколько времени прошло и очень ли было поздно, но помню, как прервался мой сон звуками, равных которым мне никогда не приходилось слышать. В темноте, полной этими стонами и визгом, оставаться казалось немыслимым. И когда тусклая свеча озарила комнату, мне показалось, что стены шатаются, что я мчусь вместе с комнатой и с домом так быстро, как нельзя мчаться на земле, и что потому сейчас надо умирать. Стены домов здесь строятся двойные, с пустым пространством между ними, от ветра. Не знаю, насколько это помогает, но за стенами ли я или в стенах, дома или на улице, и что все это такое – в ту минуту решить казалось невозможным. Рев был так силен, что разбивал мысли и представления. Гикало, выло и хохотало там, во тьме, такое страшное, такое нездешнее, что не смерти, не опасности боялся, а того, что слышишь эти голоса другого мира, которые не добро слышать. К воплям разъяренного воздуха примыкал еще низкий, густой, все поднимающийся стон моря. Мелкие камни осыпали стекло окна, которое выходило на скалу, стучали громко и раскатисто. Голос моря вырастал и теперь походил на пушечные выстрелы, не очень далекие. Мне казалось прежде, когда на родине бывала гроза и удар грома на одно мгновенье заставлял вздрагивать дом до основания, – что хорошо, что этот звук так краток: его не вынесли бы люди, если б он длился. Но это было неверно: часами длится здесь непонятный грохот, да еще не чистый звук, а вопль хора, скрежет, и перерванные крики, то короткие, то длинные, как смертная мука. Зарыться головой в подушки было нельзя; шум не уменьшался, только охватывал необъяснимый ужас неизвестности. Приходилось лежать с открытыми глазами, при жалобном свете свечи, и ждать, буря едва входила в силу.
Такое состояние бывает во время тяжкой болезни, когда жар в крови заволакивает сознание горячим дымом, когда кажется, что бежишь, мчишься навстречу или вместе с этим обжигающим вихрем, падаешь, встаешь, опять бежишь, потому что надо, – а что-то стучит около тебя невозможно громко и торопливо, и не знаешь, что стучит сердце – и только во всем этом глубокая мука.
Так было и здесь: грохот, свист и дрожь увлекали вперед с неизъяснимой быстротой; но вместе с ощущением полета – было сознание неподвижности и бессилия, – и в этом опять заключалась глубокая мука.
Казалось, что не рассветет, – но рассвело, и даже все было на своих местах, дома и деревья, только утро встало дикое, мутно-серое, а море внизу точно вспухло, иссиня-черное, страшное, как туча. Привычная Мария пришла утром еще розовее, чем всегда. Только гладко зачесанные волосы ветер растрепал, и они стояли теперь вокруг ее прекрасного лица легкими, темно-блестящими кольцами.