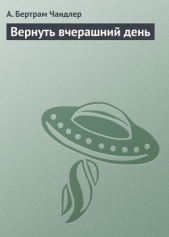Том 7. Мы и они

Том 7. Мы и они читать книгу онлайн
В 7-м томе впервые издающегося Собрания сочинений классика Серебряного века Зинаиды Гиппиус (1869–1945) публикуются ее книга «Литературный дневник» (1908) и малоизвестная публицистика 1899–1916 гг.: литературно-критические, мемуарные, политические статьи, очерки и рецензии, не входившие в книги.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Во время четвертого или пятого блюда пришли музыканты. Обычные музыканты с мандолинами и скрипками, с надоевшей Маргаритой и всем собранием неаполитанских песен. Впрочем, когда они споют эти песни и затем, сильно детонируя (их в Таормине только шесть или семь, все они самоучки, играют по слуху), проиграют попурри из многих опер, они принимаются за сицилианскую музыку, которая произвела на меня глубокое впечатление. Она совсем не похожа на мелодии южной Италии. В ней однообразие и тягучесть песен севера, серая, несказанная, необъяснимая грусть, тоска, почти скука… Та же (это мы узнали потом) как в сицилианской тарантелле, в этом монотонном танце, полном печали, болезненной страстности порою – и вечного однообразия.
Встали из-за стола, но не расходились, потому что музыканты еще продолжали. Они теперь перешли на куплеты. Старший, уже пожилой итальянец стоял в кругу подпевал и подплясывал, кривляясь. Это было скучно и противно. Норвежец грузно прохаживался по комнате, продолжая улыбаться и даже хихикать. Неожиданно он подошел к доброй криворотой англичанке и стал ей объяснять по-итальянски, что он знает четырнадцать языков и что вот только английского не знает, что он профессор, что Норвегия теперь самая важная и даже самая модная страна, и что будущее ее еще более блестящее, чем настоящее.
Испуганная до слез англичанка ускользнула. И толстый норвежец опять уже ходил по комнате, посмеиваясь про себя.
Мы переменили квартиру. И волей-неволей наш беспокойный приятель примирился с Таорминой еще на целый месяц. Случилось это следующим образом.
Мы шли вечером снизу, с моря, по шоссе. Солнце было еще высоко, Этна лиловела кусками, между высокими, рвущимися тучами, было не холодно и не жарко, – то особенное итальянское тепло, когда не замечаешь воздуха, потому что он в согласном отношении с теплотою крови.
Мы миновали и поворот в Мессину, и маленькую розовую виллу, полную левкоями, потом некрасивый и широкий, на открытом месте, дом какой-то загадочной иностранки, которая ездит в плетенке, закутанная серым вуалем, – и наконец пришли к хорошенькой вилле на самой скале, в полукилометре от города, где мы еще раньше заметили отдающееся помещение. Вилла, видимо, выросла недавно – и заслонила собою море от стоящего немного выше отеля Castello a mare [30]. Вся она была чистенькая, свеженькая, молоденькая и благоуханная, как тринадцатилетняя сицилианка.
– Посмотрим квартиру… Ведь это ничему не мешает?.. – предложили мы нашему спутнику.
Новенькая решетка весело скрипнула.
Вилла была четырехэтажная (в первом этаже, впрочем, были кладовые), но так как она вся стояла в скале, то в третий этаж не было лестницы, он со стороны шоссе лежал на земле, а в нижние этажи, на террасу, вела широкая белая лестница. Второй этаж отдавался.
Почти музыкальное соответствие красок, которыми были выкрашены стены, гравюры или фотографии лучших картин Дюрера, Бёклина, несколько мастерских, хотя неоконченных этюдов – тотчас же заставили нас догадаться, что хозяин – художник. Он был здесь сам, не молодой, небольшого роста, подвижной и болтливый. Он венгерец, но учился в Германии, живет в Сицилии уже больше десяти лет, ибо страдает астмой. Его дом – его любимейшее дитя; он сделал все сам, чуть не своими руками, даже без архитектора. Мы обратили внимание на рисунок углем, в одной из комнат внизу. Девочка, лет 12–13, одетая просто, с пучком цветов в опущенных руках, гладко причесанная. У нее склоненный, печальный профиль – той воздушной, нездешней красоты, которую отметили английские прерафаэлиты. Короткий нос, довольно большой, правильный рот с темными губами и длинные, не то грустные, не то бессмысленные глаза.
– Кто это делал? – невольно спросил один из моих спутников.
– Я делал, – словоохотливо пояснил наш хозяин. – Это наша девушка, моя бывшая модель. Она живет у меня с пятилетнего возраста. Теперь она не годится в модели, ей уже шестнадцать лет. А была очень красива!
Была! А теперь шестнадцать лет! Нам захотелось посмотреть эту отцветшую богиню.
У хозяина оказалась жена, молоденькая и эксцентричная немка. Она была сестрой небезызвестного художника, который провел в Таормине двенадцать лет и женат на сицилианке.
– Здесь так много художников-иностранцев?
– О, целые поселения! Нигде нет их столько, как в Таормине. Особенно немцев. Мой брат переехал теперь в Дрезден, но он постоянно возвращается и даже привозит с собою своих учеников.
Дело было покончено. Даже ворчливый наш приятель, обольщенный красотою дома, согласился взять с нами квартиру на месяц. Ему понравились картины. Особенно этюд женской головки, писанной масляными красками, – в его комнате; это был этюд «розового»: платок, завязанный сзади, открывающей уши, – розовый, свежая щека – розовая, шея под нею – розовая; и бледнеющие переходы розового цвета совсем различных оттенков – были удивительно хороши.
– У меня четыре служанки, – говорила хозяйка. – Девочки – почти члены семейства. Мария живет у моего мужа с пятилетнего возраста, сестре ее одиннадцать лет. Две другие спят дома, за ними вечером приходит мать. Одна из них собственно позирует, но помогает и по хозяйству.
Когда мы уже уходили и были на террасе, хозяйка звучно крикнула: Марий!
Сверху молодой голос ответил обычное «vengo!» [31], и через минуту по лестнице на террасу сбежала молодая, высокая девушка в голубом холстинковом платьице и белом переднике. Она была тяжеловата, с большими руками и ногами, слегка сутула и не очень грациозна, в узком платье, затянутая в корсет, по лицо мы тотчас же узнали – лицо рисунка углем. Может быть, оно, действительно, потеряло детскую тонкость и воздушность, но теперь оно было прекрасно своей определенностью, законченностью совершенных линий и безмятежной ясностью выражения. Профиль был арабский, очень типичный – такие лица встречаются в Таормине – с коротким носом, тупым и прямым, с длинными, карими глазами. Лицо не очень смуглое, свежее, слегка розовое.
Мария выслушала малопонятное приказание на сицилийском языке и скрылась. Когда мы уходили, у решетки мелькнуло еще несколько молодых, полудетских личек. Одно было тоже прекрасно: смуглое, почти коричневое, с темно-красными губами, свежее, как вечернее небо. Это – Панкрация, или Пранказия, как говорят в Сицилии, – двенадцатилетняя модель нашего хозяина.
На другой день, несмотря на проливной дождь, не предвещавший хорошего, мы переехали и зажили по-новому.
В маленьких деревушках около Таормины, бедных и диких до невероятия, где-нибудь в горах, попадаются лица чудесной красоты еще сохранившегося арабского типа. Женщины, работающие вдвое более и работу тяжелую, вянут невероятно быстро, но мужчины выравниваются довольно поздно. Часто восемнадцатилетний мальчик прекрасен, как девушка, с прозрачно-нежным цветом лица, гибкий и тонкий. Но рядом с уцелевшей чистотой линий тела есть несомненные признаки вырождения. Странная дикость господствует в этих маленьких горных селениях.
Духовной жизни нет и не может быть, потому что у туземца полное отсутствие ума, даже возможности развития и соображения. Они не глупы, но это та первоначальная – или последняя – безмятежная тупость, которая даже может быть красива, как все стихийное. Они не обрабатывают земли, ничем не пользуются, работают только женщины: мужчины разве слегка ухаживают за оливами; едят травы, фиги, маслины – почти никогда не разводят огня; спят на соломе, в каменном доме без окон, где зимою бывает нередко жестокая стужа. Есть много семей, в которых половина членов – полные идиоты; женщины к старости особенно часто впадают в кретинизм. У Марии мать настоящая кретинка. Страшная старуха, без зубов, полулысая – хотя ей, вероятно, нет и пятидесяти – она почти не понимает слов и все смеется, а если крикнуть, то пугается, как зверь, и осматривается, точно собираясь спрятаться. В Таормину она сходит редко. У нее много детей, из них трое идиотов. Мария взята вниз пяти лет, как и сестра ее, Бастиана, которой теперь одиннадцать лет; девочка, к удивлению, – смышленая и живая, похожая на Марию, но не такая хорошенькая. Мария была маленьким, худеньким зверьком, диким, почти ничего не говорила, и понимала и оживлялась только, когда слышала волшебное слово – mangiare. Ей дали вволю макарон и мяса; она радостно смеялась, ела с жадностью, почти пугающею, и хлопала себя по животу. У тамошних ребятишек он непомерно велик от трав, которыми они питаются. Тихая радость, внезапно блестящие глаза, оживление – до сих пор являются на лице Марии, когда она слышит про еду. Во время последнего карнавала, когда Signora [32] одела ses petites lilies [33] в костюмы и повела их танцевать тарантеллу в другой дом, тоже к иностранцам, куда были приглашены также многие giovanotti [34] из Таормины, Мария была замечена молодым каменщиком, который с нею танцевал и на другой день сделал предложение – alia Signora, конечно, а не самой Марии. Девочки не могут пройти одни даже до Таормины, и им негде видеться с кавалерами, которые в дом не допущены. «La Signora» подумала, решила, что жених подходящий, но что Марии замуж рано, и назначила свадьбу через два года. Мария пока сошьет себе приданое, видеться же с женихом ей за это время совсем не нужно. Жених тоже подумал, увидал, что решение крепко, и рассудил на эти два года съездить в Америку, попытать счастья. Такие поездки здесь в большом обычае. У Джиованины, сестры Пранказии (полненькой, очень беленькой и миленькой блондинки) тоже есть жених и тоже в Америке. Жених Марии пришел проститься, – в присутствии синьоров, конечно, а на другое утро, рано, Марии было позволено взглянуть с нижней террасы на уходящий в Мессину поезд, который был виден на расстоянии полукилометра, целый кусок, от туннеля до туннеля, и казался сверху не больше гусеницы. Марии было позволено, однако, махать белым платком, и она даже получила ответные знаки.