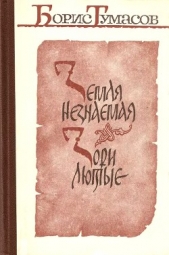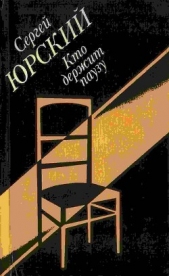Былина о Микуле Буяновиче

Былина о Микуле Буяновиче читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Всхлипнув, она утерла рукавом глаза и подошла к заснувшему под солнечною ласкою бородачу. Его длинные, сухие и волосатые, в цепях, ноги были вытянуты, точно жерди, и мухи роились над разъеденными железом ранами. Старушка затихла перед ним, отмахнула мух и позвала:
— Эй, дедушка, слышь, проснись, кипяточку себе зачерпни-ка! Ишь, как притомился, горемыка. Ноженьки-то все растерлись как.
Арестант, звеня цепями, быстро сел и тревожно посмотрел на старуху.
— А-а… Это вона кто! — и он улыбнулся, как не улыбался уже много лет. — А я, слышь, женушку свою сейчас во сне увидел. Когда она девицею была… Лет десять не видал ее во сне и вот увидел.
Августа Петровна наливала ему кипятку, слушала внимательно и задушевно, а он обрадовался, что есть кому рассказывать и продолжал:
— Будто молодой я и будто еду на пашню, а она стоит на полосе в пшенице, на коленях, будто бы молится… Я так это явственно голос ее услыхал… А это ты, выходит дело… Да-а…
Он взял кипяток трясущейся рукой и, поставив кружку на землю, посмотрел на поле и на реку, и в овраг, и заморгал, заплакал тихими слезами, некрасиво морща не по летам состарившееся лицо и подтягивая к нему крючковатые руки в цепях.
— Поплачь, родимушка, поплачь! — говорила ему Августа Петровна. — Небось давно души своей не облегчал слезами.
Она погладила его по обезображенным, наполовину сбритым волосам на голове и заплакала.
— Я вот тоже все красуюсь привольем этим и все плачу… Да… Чую Господа вокруг. Чую я и плачу о грехах своих…
— И она, слышь… Это ж самое мне говорила! Во сне-то!.. И тогда, давно, когда мы молодыми были, тоже эдак же говаривала часто… А потом Бог попустил несчастье наше…
Он говорил отрывочно, как будто Августа Петровна и без слов знала все главное. Потом тихо, с радостной и жалкою улыбкой продолжил:
— А захотелось мне, понимаешь, сыночка своего поглядеть…
Он захлебнулся и уже шепотом, как взятый за горло, быстро разъяснил:
— От женушки-то, слышь, остался двух годов, сыночек, Ванюшка… И вот, когда с каторги меня ослобонили, я, слышь, и задумал… Да и убежал с поселения-то сюда… А он… — каторжанин снова жалко улыбнулся. — А он, слышь, у господина одного в детях оказался. Семнадцатый уже год ему… Совсем нельзя подумать… Такой пригожий и обряжен баричем, а по обличию-то как есть она, когда молоденькой была…
— Ну и как же, мой родимый? — сокрушенно и ласково спросила Августа Петровна. — Как же он-то, не признал тебя?
— Ну, увидал я его и…
Боязно мне стало объявиться-то ему… И ушел я, не похотел объявиться… Пусть не знает чей он сын по правде… Ванюшка наш…
Каторжанин уронил лицо в свои пригоршни, в длинную, смятую полуседую бороду и перестал рассказывать о сыне.
— Ну, выскажи мне душеньку свою, родимый, выскажи, — соболезновала ему просвирня. — Тебе полегче будет. Выскажи!
Старик вместо ответа указал рукой на окружавшую их даль и всхлипнул.
— Это приволье-то мне, слышь, знакомое. Часто я тут бывал, лет восемнадцать тому… В ямщиках здесь находился.
Просвирня, вытирая слезы, повторила:
— Выскажись, родимый, выскажись.
И тут же услыхала певучий голос Яши, который говорил Митьке:
— А пошто не спросить? Я спрошу… Ежели дозволит — отчего не принести? Принесу… Повеселись, поиграй, дружок…
— Вот спасибо, Яшенька! — счастливо заливался Митька. — Страсть как соскучился по гармошке. Третий день гармошку не дают.
— Ну, как, Яша! — крикнул Васька Слесарь. — Не заскучал еще по воле?
— А какая моя воля! — все тем же голосом говорил Яша. — Я сызмальства у людей в неволе. Я привышный…
— А все-таки, небось, обидно понапрасну-то терпеть? — допытывался Васька.
— А какая мне обида? У других обиды больше моего да терпят. Вот только тружусь мало.
— А што Яша, за шапку-то тебе досталось от начальника?
— А мне што начальник? У меня один начальник — Царь Небесный. А шапка мне без надобности.
Он наполнял кружки и говорил:
— Вода чистая, ребятушки. Чистая. За это вы не сумлевайтесь: я первым делом кипятильник с песком вычистил.
— За што же эдакого старичка хорошего на каторгу засудили, а? — спросил рыжий ни к кому не обращаясь.
Ему ответил бледнолицый новым непривычным голосом, в котором зазвучала мягкая печаль.
— А што же: ежели хороших осуждать не будут, тогда нам на каторге совсем яма. А возле хороших-то и нам немного легче, — он посмотрел в сторону Бочкаря, глядевшего в овраг на пасеку. — Ишь, вон тоже человек во цвете пострадал.
А поодаль от Бочкаря сидел и тоже смотрел в сторону пасеки другой, такой же переполненный тоской о прошлом, связанным именно с этим уголком большого тракта.
— А ты молись! Молись, родимушка! — тихо говорила ему просвирня. — Терпи и молись — Господь-Бог услышит и в неволе пошлет волю.
— Только три годочка я и пожил с нею, с женушкой моей. И то в грехе все. Все в искушении… И вот уже пятнадцать лет отбыл на каторге — и опять иду в неволю. И на што мне воля, коли в сорок пять годов совсем состарился? Вот гляжу на эти места и, понимаешь, ровно все как было, а ровно как и не было!.. Бывал я здеся… Лошадей тут часто пас. А в пасеке старик тут жил один хороший. Поди уже давно умер. А кажется теперь, как будто все это мне только во сне приснилось!
Каторжник плакал и по-детски волосатыми, закованными в кандалы руками, вытирал глаза свои. И тихо плакала Августа Петровна, бывшая просвирня.
А из другого взвода, под конвоем, шли Анисья и Стратилатовна. Обе были в арестантских полосатых платьях и шагали той неловкою и развалистой походкой, которой ходят все непривычные к тяжести цепей на ногах.
По дороге Стратилатовна шипела на Анисью:
— А-а! молчишь теперь?.. Отмалчиваешься! Вот погоди — заговоришь. Мне ничего, я перенесу. Я уже раньше приобвыкла. А вот тебе вся моя обида отольется…
Васька Слесарь бросился навстречу ей и зашипел:
— Не спорь. Не спорь, жена. Не спорь! — он и смеялся, и боялся, и крутился, как червяк на огне. — Господин взводный позволил, но штобы не спорили. А то стращают разлучить нас. Слышишь?
Стратилатовна злобно сверкнула белками глаз.
— Я и не спорю. Я только добиваюсь правды. Потому она, она нас загубила со злодейством со своим. А я никого не грабила и не разбойничала…
Но Васька снова просил зло и умоляюще:
— Будя!.. Ну, будя!
Усадив возле себя жену, он ласково заворковал, взял от нее гребешок и начал чесать голову и бороду. Стратилатовна отняла у него гребешок; подала кусочек сахара и белого хлеба.
— Да ты сперва пей чай-то, пока не остыл… Дай я голову-то тебе почешу, — и начала чесать ему голову, в то время, как другие арестанты жадными глазами следили за этой непривычной для их глаза нежностью.
Анисья тихо подошла к Бочкарю и сквозь зубы процедила:
— Здравствуй.
Забыв про каторжан, Бочкарь жадно поймал ее руки и, то прижимая ее к себе, то отталкивая, лепетал, как в бреду:
— А ты молчи! А ты молчи, молчи, молчи!.. А то разлучат! Слышала? Грозятся разлучить нас… А на меня серчать все равно теперь без последствия. Я дурак, конечно, я даже подлец перед тобой.
— Не надо нам про это говорить, не надо, — строго, низким голосом прервала его Анисья. — Я теперь, как ровно пушка заряженная. Боюсь, боюсь, што разорвет меня…
— Ну, нет… Ты только не шуми! — упрашивал Бочкарь. — Будем терпеть. Будем все сносить, девять лет терпеть. Не вечно же они будут тянуться! — и прибавила тихим шепотом, — А может, если будем все терпеть — может и скорее выпустят! — и засиял улыбкою надежды, — Может, манифест какой, али еще что… Понимаешь? И ничего тогда нам не надо. Какую-нибудь избушку в лесу. Либо на эдаком косогоре балаган, где-нибудь на бакше у мужика. И будем жить! На воле! Вместе! Понимаешь? И никого не будем трогать. Понимаешь, только бы на волю и только бы вместе…
— Ох, не ты бы говорил мне это! Не такой ты человек, чтобы удержать тебя в избушке. Я ли тебя не любила? Я ли за тебя не рысковала? А на поверку вышло, што за эту староверку, за паскуду, всех нас продал! Рассолодел! — она совсем ожесточилась, — За это вот теперь мы и погибли. За это, за это! А я-то думала, што ты богатырь, што ты не выдашь! Што за тебя можно, как за каменную стену спрятаться. Эх! Дура я была. Дура!..