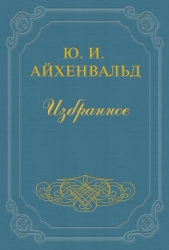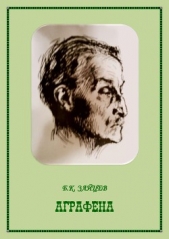Земная печаль

Земная печаль читать книгу онлайн
Настоящее издание знакомит читателя с лучшими прозаическими произведениями замечательного русского писателя Бориса Константиновича Зайцева (1881 —1972). В однотомник вошли лирические миниатюры, рассказы, повести, написанные в 1900-х — начале 1950-х годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Верить! Что это вам пришло так… сразу?
— Ну, просто мои мысли.
— А–а! — Он помолчал. — — Да, если правду говорить — должен. Непременно. Настоящего человека я и представлял всегда таким. Он стоит на земле, а взор его устремлен… да, — он сделал движение рукой к небу, — туда.
Через минуту, точно спохватившись, прибавил:
— Это я так, конечно, теоретически. В жизни это редко встречается. Знаете, нелегко…
— Теоретически, — шепнула она. — Теоретически!
Помогая у подъезда сойти, он говорил:
— К нашему умному разговору — цитата. Из Гете, но не бойтесь.
— Я мало его знаю.
— Это мужской писатель. Он сказал: «Несите в жизнь священную серьезность, ибо только она, священная серьезность, обращает жизнь в вечность». Видите, как.
«Опять теоретически. Он знает все прекрасные слова, какие есть». И вместе с тем, взглянув на этого худого человека, который все понимает, она почувствовала острое обожание.
Он говорил еще, что, в сущности, нынче они должны бы кутить с Феллиным. Но это хорошо после победы, значит, пусть она отговорится нездоровьем, а в пятницу надо собраться. Она почти не слышала, в душе у ней блистало одно: «Люблю, люблю».
Подымаясь к себе, она вдруг подумала: «Как любит он?» И тут же засмеялась: «Он отлично понимает все в любви, и не любит».
В «Звезду» съехались к двенадцати. Феллин был в смокинге, с цветочком. Но в глазах его что‑то мелькало.
— Ну, — он хорохорился, — что вы скажете о Ранке?
— Браво, браво!
Горич тоже хлопнул, оглядываясь на певиц.
— Пить, — заявила Анна Михайловна, — я хочу сегодня напиться.
Как человек неопытный, она потребовала шампанского. Оркестр заиграл, на сцене мисс Гарди пела «А–ида тройка, сн–ие–г пуш–шистый» [118], Феллин таращил глаза и фукал. Видимо, его что‑то точило. Анна Михайловна выпила два бокала, у ней зашумело в ушах; все стало зыбче, ненадежней.
— Да, вот вам нравится мой Ранк…
«Откуда это он взял? Ах да, я что‑то говорила».
— А там, черт возьми, в театре… м–м… В сущности, скотина этот Горбатов.
И, волнуясь, он начал рассказывать, как его притесняют, не дают ходу, как Ранка в очередь с ним будет играть другой.
— Ну, Феллин, — закричала Анна Михайловна, — вы опять про театр? Как не надоест, право. Люди приехали веселиться, а он все свое.
Горич нагнулся к ней, взглянул ласково, как на ребенка.
— В ударе, знаменитая артистка!
Она блеснула на него, захохотала.
— Пили б лучше с Феллиным брудершафт.
— Пьем. Но ругаться, кажется, нужно?
Смеясь, они поцеловались, выпили. Феллин сказал что-то вполголоса. Горич подумал, ответил грустно:
— Бездарность.
Феллин побледнел, поморщил ус.
— Неостроумно.
Анна Михайловна чувствовала, что в хмелю пропадает ее тоска, стыд, и ей хотелось, чтобы этот вечер не кончался.
— Вы теперь брудершафты, — говорила она мужчинам, — вам нечего ссориться. Вообще ссориться не надо, все на свете отлично, вы видите, это шампанское, это Горич, оч–чень милый господин. Кто это там идет? Певица? Гарди? Мисс Гарди, пожалуйста, к нам!
Феллин морщил усы, покровительственно, будто хотел сказать: что ж, со всяким бывает. Мисс Гарди позвали, поили шампанским. Мисс отвечала привычно, — не раз русские дамы знакомились с ней, и всегда говорили одно и то же. Когда в зале остались они одни, Гарди стала напевать. Все хохотали.
— Голубушка, — говорила ей Анна Михайловна, — едем. Дальше, здесь кончается, едем!
Феллин повез их в клуб, странное и подозрительное место, где можно было сидеть до шести. Опираясь на руку Горича, Анна Михайловна шептала:
— Эту жизнь я понимаю. Я б хотела быть певицей, чтобы вы, — она взглянула на него, засмеялась весело и конфузливо, — были моим покровителем.
Он поцеловал ей руку.
— Вы большой шутник.
В клубе они играли с бледными девицами в бикс, сидели в баре, пили. Нелепый вой несся из гостиной, стон пианино: пьяные художники колотили по нем и орали.
Анна Михайловна нагнулась к Горичу.
— Вы знаете, я никогда не бывала в таких местах. Бог мой, что сказала бы Эмма!
Но здесь, под крик пьяных, в воздухе шулерства, игры, ей вдруг стало тяжко. «Что ж, завтра будет Эмма, дом, благоустроенная жизнь, театр, страдания по ночам. И ничего, ничего».
Она шепнула Горичу — не прощаясь, они вышли.
Как странно утро после шумной ночи! Сереет рассвет, снег на Неве синеет, — что‑то древнее, жуткое есть в этом снежном поле, в слабом ветре с севера. Кажется, что стоишь перед сумрачной стихией. Подошли к гранитной скамейке у берега. Анна Михайловна остановилась.
— Сядем здесь. Я хочу дышать этим ветром — он очищает мою душу.
Горич закурил. Было пустынно. Лишь блестели фонарные огни, да крепость подымала вверх свой шпиль над громадой камня.
— Я сейчас скажу вам одну вещь, которую трудно говорить дома. Но теперь я могу… — Она перевела дыхание. — Милый друг!
Через минуту прибавила:
— Я совсем трезва, не думайте. Но женщины это редко говорят: — Милый Горич, я люблю вас.
Он сидел смирно.
— Да, я сказала — потому сама сказала, что ведь вы меня не любите. Я люблю вас безнадежно, Павел Александрыч, в этом сила моя. Милый, милый!
Она поцеловала ему руку. Горич растерялся.
— Больше этого не будет. Если вам не тяжело, не забывайте меня окончательно.
Она встала, ушла быстрым, легким шагом, не позволив провожать.
Вспоминая слова, какие говорила Горичу, Анна Михайловна не раскаивалась. «Пусть он знает. Да, я его люблю. Разве плохо — сознаться в этом?» Ей было даже радостно. Одно смущало — Эмма.
Эмма стала тише, сдержанней, как будто дальше. Смысл был такой: «Знаю, что ты любишь, — отхожу».
Эмма худела и кашляла. Часто у ней бывала испарина, наконец появилось кровохарканье.
Анна Михайловна повезла ее к профессору; и диагноз оказался прост — чахотка; надо немедленно в Швейцарию, в Сен–Мориц. Эмма, вернувшись, была тиха, молчалива.
— Что ж, поеду в Сен–Мориц.
Анна Михайловна обняла ее.
— Эмма, я куплю тебе билет, дам триста. Получу жалованье — еще вышлю.
— Не надо. Я напишу тетке, у меня есть тетка… Зачем же тебе… стеснять себя.
Анна Михайловна удивилась. В первый раз слышит она об этой тетке.
— Что ты, Эмма, Бог с тобой, у меня же есть деньги. Неужели для тебя не найдется?
— Нет, я напишу тетке.
Эмма вдруг побледнела, губы ее дергались; с искривленным лицом она закричала:
— Не надо мне денег, тетка…
Потом она рыдала, металась в истерике, сквозь слезы повторяла:
— Я уеду к тетке, я тебе в тягость. Ты меня не любишь, ты рада, да, — взвизгивала она в отчаянии, — рада сбыть меня с рук, я мешаю, Горичу твоему…
Хлынула кровь, и почти без чувств уложила ее Анна Михайловна. Вечером, когда она лежала слабая и маленькая, как больная пичуга, Анна Михайловна села к ней на кровать.
— Эмик, ты все выдумала про меня. Я люблю тебя по–прежнему, ты самый дорогой и нежный друг мой. Чем ты можешь мне мешать? Сейчас мне нельзя с тобой ехать, через неделю Рождество, но даю слово, как кончится сезон, в половине февраля мы встретимся.
Она перевела дух. Эмма слушала. Она ничего не ответила, только погладила горячей рукой руку Анны Михайловны.
— Ты все упрекаешь меня Горичем. Так вот знай: да, я его люблю. Но он меня, Эмма, — голос ее стал глуше, — не любит.
Эмма прошептала:
— Я люблю тебя тоже безнадежно.
— Мы женщины, мы любим друг друга не той любовью.
Эмма улыбнулась, взглянула на нее. В этом взгляде было столько обожания, страсти — больной, мучительной, что слова ее показались ненужными.
Оставить Эмму на ночь она не решилась — легла в ее комнате на диване. Эмма будто заснула или притворилась, что спит. Анна Михайловна задремала, но ненадолго. На нее нашло уныние: «Куда она поедет, зачем?» Ей казалось, что одна Эмма не доберется до границы, захиреет, погибнет. «Она, правда, кажется, в меня влюблена. Как все странно, жалко, уродливо». Эмма вздохнула, поднялась с постели. В полутьме она казалась больным ребенком.