Сумерки божков
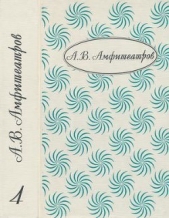
Сумерки божков читать книгу онлайн
В четвертый том вошел роман «Сумерки божков» (1908), документальной основой которого послужили реальные события в артистическом мире Москвы и Петербурга. В персонажах романа узнавали Ф. И. Шаляпина и М. Горького (Берлога), С И. Морозова (Хлебенный) и др.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Не надо… Прощай, Андрюша!
XII
Эдгар Нордман переживал большие и неприятные волнения. Судьба его «Крестьянской войны», так хорошо было налаженная, повисла на волоске. После «Валькирии», в которой Наседкина-Брунгильда имела успех еще больший, чем Тамарою в «Демоне», Берлога пригласил молодого композитора к себе в уборную и, поспешно снимая с лица какаовым маслом грим Вотана, категорически потребовал, чтобы Нордман взял партию Маргариты Трентской от Елены Сергеевны и передал дебютантке.[253] Нордман испугался, и бледно-желтые, висячие на лоб косицы его как будто еще выцвели и побледнели.
— Андрей Викторович, друг мой! Подумайте: разве возможно?!
— Возможно, если я предлагаю. И не только возможно: должно, нужно, необходимо.
— Андрей Викторович, знаете, я просто теряюсь…
— Э! Не от чего вам теряться! Вы не теряться должны, а радоваться. Вы — композитор. Вы не можете не слышать, что Наседкина в вашей опере будет в десять раз сильнее и ярче Савицкой. С нею успех «Крестьянской войны» обеспечен и застрахован как в хорошем банке. Ваша прямая выгода, чтобы пела Наседкина. Я забочусь не о ней, но о вас.
— Я очень понимаю ваше расположение, Андрей Викторович, и ценю, и глубоко благодарен, но — знаете — как же, знаете, с Еленою Сергеевною? Посудите сами: я, конечно, знаете, неопытен в театральных обычаях, но так, вообще, ужасно неловко, знаете… Елена Сергеевна работала над партией, сделала целый ряд репетиций, и вдруг — чуть не накануне, знаете, первого представления — я отставлю ее от роли, как будто, знаете, не выдержавшую пробы дебютантку? Это неприлично, невозможно, неблагодарно и неблагородно, знаете, с моей стороны. Я не могу.
— А! Нордман! Кому вы говорите? Неужели вы воображаете, что я сам не знаю и не продумал вашего положения? У меня от мыслей о «Крестьянской войне» хроническая бессонница установилась, а за Лелю мне так больно и стыдно, что сердце раздирается… Но ничего не поделаешь. Что надо, — надо. Ваша опера — экзамен всей нашей деятельности. Мы были вправе рисковать успехом, пока не имели настоящей певицы для Маргариты Трентской, и приходилось довольствоваться Савицкою, как суррогатом, что ли: вместо хлеба лебеда и за неимением гербовой пишем на простой. Но теперь, когда в труппу вошла Наседкина, всякий риск — безумие, преступление. Если вы на нем настаиваете, вы не любите вашей оперы.
— Милый Андрей Викторович, но вспомните же, что — если бы не Елена Сергеевна, то «Крестьянская война», знаете, не нашла бы и театра для постановки, знаете… по крайней мере, в России! Савицкая так много для меня сделала и делает, я, знаете, обязан ей началом карьеры. И теперь — в ее собственном театре — такое оскорбление ее артистическому самолюбию… за что? Помилуйте! мне будет стыдно в глаза ей глядеть…
— Оставьте, пожалуйста! Вы будете в стороне. Я беру всю ответственность на себя. Вам не придется иметь неприятных объяснений. Вы останетесь с умытыми руками. Лишь предоставьте мне действовать. У Елены не будет даже повода обидеться. Ну… по крайней мере, явно обидеться, показать, что она оскорблена. Предоставьте мне! Я сделаю, что она сама откажется от партии. Я не интриган, подкопов вести не умею и не поведу ни за какие блага в мире. Но я заставлю ее наглядно убедиться, что она обязана передать партию, заставлю открыто, прямою, честною конкуренцией другого таланта… От вас же попрошу лишь одной помощи. До сих пор «Крестьянская война» репетировалась в ординарном составе. Стало быть, если заболеет кто-нибудь из нас, исполнителей, то вот и — конец: спектакль сорван. Этак нельзя. Это и нам, и вам — убыток. Вы заявите дирекции, что желаете застраховать оперу от подобных случайностей и требуете двойного персонала Пусть меня дублирует, на всякий случай, Тунисов, а Маргариту репетирует Наседкина…
— Тунисов — Фра Дольчино?! Вы смеетесь, Андрей Викторович. Он не вытянет. Ему не по силам.
— Пусть репетирует. Петь он не будет, но пусть репетирует. Я должен иметь за собою тот оправдательный факт, что я сам не стою за свою монополию на партию и разрешаю меня дублировать, — следовательно, вправе требовать того же отношения к делу и от других исполнителей… и от Елены!
— Андрей Викторович, это софистика! это, знаете, обход! И такой прозрачный, знаете, что никого не обманет.
— Ну и пусть софистика! черт с нею! Лишь бы конвенансы были соблюдены: нужна же мне какая-нибудь почва под ногами…
— Я, знаете, искренно говорю вам: от всего сердца, знаете, предпочел бы, знаете, чтобы вы оставили всю эту вашу затею, и пусть «Крестьянская война» идет, знаете, как уже срепетирована… с Еленою Сергеевною.
— В таком случае, — холодно и зло возразил хмурый Берлога, — будьте любезны передать мою партию Тунисову уже не фиктивно, но в самом деле. Я с Савицкою Фра Дольчино петь не буду.
— Андрей Викторович! Что это вы говорите?! Какой там Тунисов?! Вы слишком хорошо знаете, что опера без вас пойти не может, и я, автор, первый буду просить, чтобы ее отменили и сняли с репертуара.
— Ну и просите, отменяйте, снимайте: я с Савицкой петь не буду. Я слишком важное значение придаю вашей опере, чтобы играть ее судьбою. Пусть она лучше не идет вовсе, чем кое-как.
— Да ведь шла бы она «кое-как», если бы не отыскалось этой вашей Наседкиной?
— Что же нам считаться с «бы»? Давайте говорить в изъявительном наклонении, — пропади всякая неприятная условность и да здравствует счастливая действительность!
— И совсем, знаете, не «кое-как» опера идет. Вы напрасно, знаете, вдаетесь в пессимизм. Вы слишком предубеждены относительно Елены Сергеевны. Против того, что в этой партии можно быть ярче и сильнее, я возражать не смею, но во всяком случае Савицкая — вполне удовлетворительная Маргарита.
— Мне удовлетворительной мало, — сердито прервал Берлога, — мне нужна великолепная.
— И вы полагаете, что Наседкина будет великолепна?
— Уверен.
— Знаете, у нее, конечно, замечательные, роскошные, знаете, голосовые данные, но, знаете, ждать от артистки, которая всего лишь один месяц на сцене, и пела, знаете, не более пяти или шести спектаклей, чтобы она сразу создавала огромные драматические роли…
— Да вы ее сегодня в «Валькирии» Брунгильдою слушали? — крикнул Берлога.
— Слушал. Очень была хороша, знаете. Но Брунгильда, Тамара — это, знаете, возможно: тут имелись традиции и образцы. А моя опера, дурна ли она, хорошали, знаете, но — совсем новая, никем не петая и не играная. Она требует самостоятельного творчества, ее нужно создавать без всяких прецедентов, примеров, тут нужна не хорошая копия, но оригинал. Это, знаете, ответственность нешуточная. Тут — вся моя судьба. Надо, знаете, очень верить в артистку, чтобы поручить ей свое детище так наобум, как вы требуете… Наседкина слишком молода… У меня такой веры в нее нет.
— Ну а я вам на это скажу, что потому-то и добиваюсь я Наседкиной для Маргариты Трентской, что и в Тамаре, и в Валькирии она именно ни на минуту не была копией… Господи ты Боже мой! Знаю я этих Тамар штук пятьдесят, по крайней мере, и — кроме Наседкиной — хотя бы одна из них на шаг отступила, хотя бы интонацию новую нашла против рутины, которую еще первые исполнительницы установили… Павловская, Рааб, Верни… «дела давно минувших лет, преданья старины глубокой»![254] Словно граммофоны ходячие! Наша Леля пела и играла Тамару изящнее всех, — это что и говорить. Но только с Наседкиною я понял, что и Леля никуда не годилась, была не Тамарою, но лишь ангельской красоты барышнею, выряженною в грузинский костюм. Образованною барышнею, с чувствами, нервами, дневником, где-нибудь в шкафу спрятанным, с альбомом, с пианино, с моим портретом на письменном столе. А ведь эта чертовка — всю роль вверх дном перевернула! Вы вспомните: дикарка, красивый, ласковый, сильный, грациозный зверь, безграмотная, первобытная, добыча гарема или терема, глаза — одна животная красота без тени отвлеченной мысли, как на старинных иконописных грузинских портретах, — и вся, в каждом жесте, взгляде, трепещет ждущим темпераментом… Суеверная, сладострастная, здоровая, молодая… Такой Тамаре, понятное дело, в монастыре должны демоны грезиться, галлюцинации безумные всякие, мечтания непроизвольных озлоблений плоти и одоления страстей. Она — порченная от страсти, бессознательная истеричка, в которой пол бунтует против воздержания не по возрасту, — знаете, вроде Сопомонии Бесноватой, о которой был написан первый русский роман. В ту тоже все черти влюблялись, покуда ее не отчитал какой-то угодник. Черт-то, являющийся в фимиаме, — для Тамары, как его Наседкина объяснила, — не абстракция в халате сером, не романтическая идея ходячая, декламирующая хорошие стихи, но реальный, осязаемый любовник… желанный и неизбежный…
























