Сумерки божков
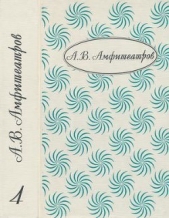
Сумерки божков читать книгу онлайн
В четвертый том вошел роман «Сумерки божков» (1908), документальной основой которого послужили реальные события в артистическом мире Москвы и Петербурга. В персонажах романа узнавали Ф. И. Шаляпина и М. Горького (Берлога), С И. Морозова (Хлебенный) и др.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Красным пожаром день судный пылает,
В башнях зубчатых трепещут палачи…
Знамя, взвивайся! Народ, подымайся!
Бог свободы, освяти наши мечи!..
Она поднимет дыбом ваши мирно висящие, желтые волосы, она заставит вас кричать, стиснув кулаки, плакать горящими, полными крови, глазами… И потом это ее «do»! это изумительное, бесподобное, невероятное «do»!.. Нордман! Вы не имеете нравственного права уступать Маргариту Трентскую другой певице! Если вы оставите ее в руках Елены Сергеевны, вы не артист, вы не человек искусства, вы не мыслитель, вы не общественный деятель…
— И так как я совсем не желаю, чтобы господин Нордман был сразу уничтожен во всех своих достоинствах, то можешь быть спокоен, Андрюша: я отказываюсь от роли и передам ее твоей протеже…
Нордман схватился за свои злополучные косицы и, как сложенный перочинный ножик, согнулся пополам в кресле, на котором сидел, головою в колена, точно страус, пытающийся зарыть нос в песок, а Берлога вскочил и рванулся вперед, как бешеный вепрь. Он рассвирепел страшно… На пороге в широко распахнутой двери стояла в своей синей кофточке и шляпе Елена Сергеевна. Она казалась совсем спокойною, холодною, даже насмешливою на вид, — только ноздри у нее ходили сильным, задержанным дыханием, да глаза светились необычною, жестокою ясностью глубокого и презрительного гнева.
— Это что же такое? — хрипло, с удушьем выговорил Берлога, растирая ладонью нервно заболевшую грудь, — как прикажете понимать? За мною шпионят? Меня подслушивают, когда я говорю с друзьями?! Елена Сергеевна! Леля! Красиво! О, черт возьми! Проклятая сцена! Проклятый театр! До чего в нем может упасть самый порядочный человек!
— Я не подслушивала тебя, Андрей Викторович, — тихо возразила Савицкая. — Нет надобности тебя подслушивать. У тебя есть счастливая манера устраивать заговоры во все горло и говорить секреты на весь театр. Я шла не подслушивать, но именно предупредить тебя, что у стен бывают уши, и нехорошо, чтобы о твоих планах и замыслах против меня я узнавала от других, а не от тебя самого.
— Ванька Фернандов?! — вспомнил Берлога и даже зубами скрипнул. — Скотина проклятая! Я ему завтра морду побью! Вы были правы, Нордман!..
— Все равно кто, — холодно возразила Савицкая. — Дело не в том. Я сидела в кассе, сводила с Риммером счета. Ко мне приходят и говорят, что Андрей Викторович Берлога затворился с Эдгаром Константиновичем Нордманом и кричит о каком-то coup d’état [260], что ли… или как прикажете назвать? Я было не поверила: все-таки мой театр — мой дом, — неужели в моем собственном доме мой лучший друг и старый, постоянный сотрудник позволит себе строить на меня заговор какой-то? Пошла просто остановить и предупредить вас, что неловко так, не компрометируйте себя… Ну пошла — и пришла как раз к тому, чтобы услыхать ультиматум Андрея Викторовича… Спасибо, Андрюша, голубчик. А вы, Нордман, не конфузьтесь напрасно… Что же? Дело житейское. Дружба дружбою, служба службою. Забудьте во мне артистку и постарайтесь видеть только директрису театра. Я не угодила вам как певица, — что делать? Приложу старания, чтобы вы остались довольны мною как контрагентом…
— Елена Сергеевна! Клянусь вам… вот — при нем же, при Андрее Викторовиче… это — не моя идея! Мне, знаете, и в голову не приходило, знаете… И я повторяю Андрею Викторовичу, что говорил: я всем доволен, не вижу ничего слабого и требующего поправки и был бы, знаете, очень рад оставить все в порядке, как срепетировано, без всяких перемен и изменений…
— А Андрей Викторович, — оборвала Савицкая, не обращая внимания на беснующегося Берлогу, — Андрей Викторович тоже повторит мне, что в таком случае он не поет Фра Дольчино, предпочитает снять оперу с репертуара, быть может, даже выходит из труппы… Мало ли где могут остановиться Андрюшины капризы и фантазии, когда его обуяет упрямство! Нет, благодарю, — слушать подобные комплименты в глаза я не привыкла и не намерена привыкать. Я предпочитаю проглотить обиду и сделать, как Андрей Викторович прикажут. Знаете, «чего моя нога хочет?»
— Называть убеждение упрямством и самодурством — самый легкий способ спора, Елена Сергеевна, — гневно отозвался Берлога. — Ты знаешь, что я настаиваю на передаче партии не по личным каким-либо расчетам и видам — и уж, конечно, меньше всего думаю оскорбить тебя и поступить тебе назло. Что же мне сто раз возвращаться на первое? Я объяснял тебе достаточно подробно, почему ты не должна петь Маргариту Трентскую. Ты смотришь на это, как на блажь мою, а для меня это — вопрос высшего порядка…
— Знаю! слышала! — презрительно остановила его Савицкая. — Политика в опере!.. Политика, зависящая от того, что у одной певицы верхнее «do» громче, чем у другой!.. Оставь, Андрей Викторович! здесь мы друг друга никак не поймем и сойтись не можем… Толкуй об этом, если нравится, с Санею Светлицкою, которая водит тебя за нос, поддакивая твоим социальным фантазиям и бредням… О Бог мой! Может же человек настолько потерять рассуждение, чтобы поверить, будто у Светлицкой, у Саньки Светлицкой есть политические убеждения, социальные симпатии и идеалы! Ах, не дергайся нетерпеливо! Я вовсе не собираюсь разубеждать тебя: не мое дело. Да и вообще совершенно напрасно сейчас спорить с тобою о госпоже Наседкиной. Ты влюблен и слеп, как все влюбленные.
— Здравствуйте! — с полною искренностью изумился и даже в пояс поклонился Берлога. — Только этого недоставало! Ну, Елена Сергеевна, извини меня, — но от тебя я мог бы ждать чего-нибудь поумнее…
— Не обижайся, пожалуйста: оно совсем не так глупо, как ты думаешь. Я и не утверждаю, что ты влюблен в девицу Наседкину, как в девицу Наседкину, — пылаешь гимназическою страстью к ее толстому телу и оловянным глазам.
— Уж это — по-женски, Елена: глаза у нее совсем не оловянные.
— Я от своего пола, кажется, никогда и не отрекалась, — беру его со своими достоинствами и недостатками… по-моему, — оловянные, а тебе — как угодно… Ты вообразил, что она будет великим орудием твоих фантазий, ты в орудие своей мечты влюблен, — вот что я хотела сказать. Ну и Бог с тобою, Андрюша! Делай что хочешь, поступай как знаешь, но — в последний раз предупреждаю тебя: смотри — не ошибись!..
Она горько засмеялась, и это было странно и грубо в ней, никогда не улыбающейся.
— Политика, построенная на верхнем «do» певицы!.. Ах, Андрей Викторович! Неужели ты, энтузиаст, Дон Кихот комический, не замечаешь, в какой наивный ты попадешь просак?
— Ты, Леля, кажется, сама только что сказала, что говорить об этом излишне: мы друг друга не поймем.
— Да я не о политике твоей хочу говорить. Я в ней чужая. Мне до нее дела нет. Я не политический человек, я артистка и только артистка. Выше искусства для меня ничего не существует, а твоя политика — где-то там, внизу. Ну а как артистка — уж позволь мне: я могу иметь свое мнение и, быть может, более авторитетное, чем твое. Потому что ты — случайный самородок, а я — метод и школа…
— Твое при тебе и остается. Никто не отнимает.
— Политика на верхнем «do»! — опять засмеялась гневными, печальными нотами Елена Сергеевна. — Какой умный и прочный фундамент! Политика на верхнем «do»! Ну а если она, твоя Наседкина, сорвется на этом своем знаменитом верхнем «do»? Что же тогда будет с твоею политикою?
Нордман, встревоженный, поднял голову и испуганными глазами смотрел на Берлогу.
— Она не сорвется. С чего ей срываться? — проворчал тот.
— С того, что у нее голос непоставленный, — холодно отвечала Савицкая. — Твоя Наседкина — я не спорю, — великолепный, стихийный материал, большая музыкальность, яркий темперамент, быть может, даже талант драматический. Из нее можно огромную артистическую величину выработать. Но твой новый друг, Александра Викентьевна Светлицкая, которая вертит всеми вами, как марионетками, — да! да! не воздымай очей к потолку и не пожимай плечами: это так, я все вижу, все понимаю! Я знаю, что говорю! — твоя Светлицкая слишком поторопилась доставить мне неприятность счастливой соперницы. Она вывела крышу на воздухе, без стен и фундамента. У Наседкиной — не школа, а призрак школы, подлог, обман, внешний, поверхностный лоск напоказ, а вглубь — нет ничего. Таким пением можно обманывать публику, но не нас, специалистов. Она сама не знает своих средств и не уверена заранее, как и что у нее выйдет. Она не прочна. Ее покуда выручает огромный голос и здоровая глотка, но в конце концов она кричит на авось, как горластая деревенская девка… вот что, милый мой Андрей Викторович! И не можешь ты этого не слышать.
























