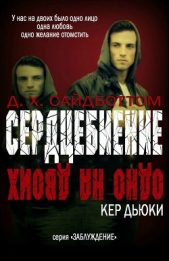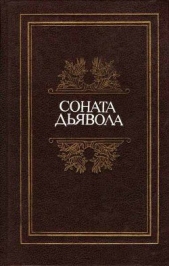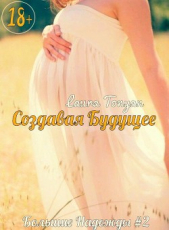Адель

Адель читать книгу онлайн
В «Адели» присутствуют автобиографические мотивы, прототипом героини послужила княжна Александра Ивановна Трубецкая, домашним учителем которой был Погодин; в образе Дмитрия соединены черты самого Погодина и его рано умершего друга, лидера московских любомудров, поэта Д. В. Веневитинова, как и Погодин, влюбленного в Трубецкую.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Да, непременно еще надобно завести у себя вернейшие портреты великих людей и копии с изящнейших произведений ваяния и живописи. Чтоб всяким взглядом в нашем доме изощрялся вкус, возвышалась душа! — Мы сумеем убрать наши комнаты!
Мне хочется иногда, чтоб занемогла она: я буду ходить за нею, страдать с нею, — и она все это будет видеть, чувствовать. — Мне хочется, чтоб она умерла: вот когда, в этих адских муках, почувствую я любовь свою во всей полноте. — Нет, я не буду мучиться: пусть тлеет ее тело; она останется в любви моей невредимая, живая, бессмертная. — Или — я оживлю мертвую моим духом, силою моей страсти. — Нет — лучше я буду сперва мучиться, потом оживлю. Я хочу перечувствовать все чувства.
Я умираю. Она приходит ко мне. Расстроенный мой ум тотчас устанавливается, из беспамятства я прихожу в себя. — Мне ль не узнать ее? Я возьму ее руку, приложу к своему сердцу, поцелую ее — друг мой! прости…
Ревность — вот еще прекрасное, сильное ощущение; термометр любви. Шекспир! как хорош твой Отелло!
Я видел ее у обедни в Симоновом монастыре. Всякое божественное слово выражалось ее ангельскими взорами: «Горе имеем сердца — премудрость! прости — достойно есть яко воистину блажити тя богородицу» [27]. — Благоговение, спокойствие, кротость, преданность. — Мой любезный Карло Дольче! изорви свои картины. Опять искусство стало ниже природы…
19 апреля — день, счастливейший в моей жизни. Я читал Евангелие с Аделью. Мы говорили о любимом предмете моих размышлений, земной жизни Иисус-Христовой, о разных словах его и действиях: как на известие, что его дожидается на дворе мать и братия, «простер руку свою на ученики своя и рече: «Иже бо аще сотворит волю отца моего, иже есть на небесах, той брат мой, и сестра и мати ми есть». Как на вопрос Петра, можно ли прощать брата до семи раз, отвечал: «Не глаголю тебе, до седмь крат, но до седмьдесят крат седмерицею»; как спас он несчастную грешницу от фарисеев, осуждавших ее на побиение каменьями, сказав им: «Иже есть без греха в вас, прежде верзи камень на ню», как на Фаворе «бысть, егда моляшеся, видение лица его ино, и одеяние его бело блистаяся»; как на горе Елеонской «быв в подвизе, прилежнее моляшеся, бысть же пот яко капли крове, каплющия на землю»; как, распятый на кресте, воскликнул он: «Отче, прости им, не ведят бо, что творят»; как произнеся «Совершишася», предал дух. В святом восторге, молча смотрели мы друг на друга, и глаза наши наполнились слезами умиления.
Один древний сказал: «Если я узнаю какого-нибудь человека, то узнаю себя». — В ней хочу я узнать себя. О, друг мой! ты получишь на меня новое право. — Но откуда ж будет взять мне любви! — Откуда! Я целые миры наполню ею, и все будет у меня оставаться больше — источник неиссякаемый.
Гордый юноша! ты думал, что тебе довольно себя, — и горько узнать тебе, что ты только половина; но утешься — ты можешь сделаться бесчисленностию.
Я позабыл все, все, как будто б ничего и не было. Везде, все — она и я. Я не дышу, не живу — я только люблю.
Какое действие в природе есть самое высокое, таинственное, священное?
Июля 20. Я был у ее брата; он увел меня с собою в ее кабинет. Ей в первый раз завивали волосы. Она сидела перед зеркалом. — Как я вздрогнул, когда ловкий француз прикоснулся ножницами к ее черным локонам. Ах! жертву ведут на заклание. В пылу своих мечтаний я позабыл об этом испытании, которое предстоит ей, в котором исчезло уже столько прекрасных надежд. Адель! если б ты узнала вдруг все ужасы большого света! Как мне описать его тебе и с чего начну я? Это… это гнездо разврата сердечного, невежества, слабоумия, низости! Спесь становится там на колени перед наглым случаем, целуя запыленную полу его одежды, и давит пятою скромное достоинство. Суетному тщеславию приносится в жертву и чужой труд, и будущая участь собственного семейства. Мелочное честолюбие составляет предмет утренней заботы и ночного бдения, лесть бессовестная управляет словами, гнусная корысть — поступками, и об добродетели сохраняется предание только притворством. — Ни одна высокая мысль не сверкнет в этой удушливой мгле, ни одно теплое чувство не разогреет этой ледяной коры. Люди не благоговеют там пред гением, не радуются успехам просвещения, не принимают участия в судьбе человечества, не верят истине, горния внушения называют мечтами,
Смотри — вот друг человечества, который пишет проекты об уничтожении нищеты, пустив по миру тысячи родовых крестьян. Вот преобразователь государства, который своею рукою не умеет пяти слов написать связано и правильно. Вот гордый сановник, к которому приблизиться не смеют подчиненные и который наедине треплет по плечу камердинера или целует руку у любовницы сильного временщика. Вот патриот, который получает миллион доходу и жертвует отечеству крестьянские подушные деньги, — вот набожная старуха, которая по середам и пятницам ездит к обедне, кладя земные поклоны без счету, и которая, по своим видам, рада позволить родному сыну отвратительное распутство. Вот человек добродетельный, который из лишней тысячи уделяет грош на кусок хлеба бедному, и то еще за почетный диплом. Вот человек честный, который платит верно по заемным письмам из выигранных наверное денег. Вот жаркий либерал, у которого камердинер не ходит без синих пятен на лице. Вот верная супруга, у которой пять домашних друзей; верный супруг, у которого на содержании оперная певица; любезный молодой человек, который испытал все Тиссотовы лекарства [29] и заложил уж последний башмак из приданого будущей своей невесты; почтительный сын, которого тяжбу с матерью решает подкупленный суд. Вот покровитель просвещения, которого сын учится философии у французского модиста; вот испытатель путей господних, который за одно оскорбительное слово готов оклеветать брата пред уголовным судом, вот… Но мне уж отвратительно исчислять ненавистный легион…
Скажут, я увлекаюсь пристрастием, сужу слишком строго, вижу одну черную сторону, — согласен; но, Адель, подумай: не много ли ужасного и в четверти правды?..
Я начертал тебе характеристику действующих лиц, но что должно еще сказать об их употреблении времени, священного времени, которое искупать повелевает нам мудрый? Об этих визитах, где страдают гости и хозяева, об этих поздравлениях с именинами, праздниками, успехами; о прогулках, где хотят только показать себя и пощеголять, хоть напрокат, перед другими, об этих туалетах, званых обедах, балах, где несчастные девушки по целым часам кружатся без усталости, чтоб назавтра встать в полдень с больною головою и поблеклыми щеками, чтоб до срока расстроить здоровье своего тела и помрачить чистоту своей души. — Поверишь ли: у этих людей нет ни одной минуты, в которой бы они могли предаться свободно своему сердцу или уму. Вольные рабы и мученики, они вращаются в своей стихии — пустоте — по законам каких-то условных приличий; часто ненавидят их сами, но не имеют столько сил, чтобы освободиться из-под их тяготения: сначала, в молодости, бранят их, потом терпят, привыкают, наконец делаются их блюстителями, защитниками и, не имея никаких других достоинств, гордятся их познаниями. В обществе они сносны, даже забавны, когда с ловкостию и любезностию, рассыпая везде цветки светского остроумия, говорят о предметах, для себя близких: о городских сплетнях, французских водевилях, балах, гуляньях, модах, успешных и не успешных исканиях; но среди мелочей, легкомысленные, они осмеливаются