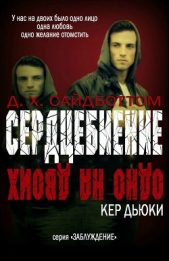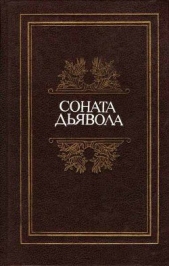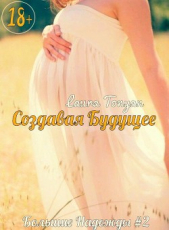Адель

Адель читать книгу онлайн
В «Адели» присутствуют автобиографические мотивы, прототипом героини послужила княжна Александра Ивановна Трубецкая, домашним учителем которой был Погодин; в образе Дмитрия соединены черты самого Погодина и его рано умершего друга, лидера московских любомудров, поэта Д. В. Веневитинова, как и Погодин, влюбленного в Трубецкую.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
М. П. Погодин
АДЕЛЬ
Посвящается О. С. А-вой
У меня был друг, с которым я вырос, воспитывался, с которым рука об руку вышел на поприще жизни. Он умер в цвете лет, в прекраснейшую минуту бытия, когда оно достигло, кажется, до высшей степени своего совершенства. Смерть была для него счастием — и я не смею роптать на судьбу, которая так рано раскинула темную тень по излучистой дороге моего странствия. Одна звезда светит мне теперь — воспоминание. С удовольствием я думаю об утраченном, с удовольствием говорю об нем… Сколько любви кипело у него в сердце! Какими особенными, прекрасными свойствами отличался его ум! Он ясно видел священную цель, назначенную человечеству, и был убежден сердечно, что она будет достигнута. В восторге преклонял он колено пред теми помазанниками, коим провидение предоставляло славный жребий увлекать к ней толпы за собою. Он пламенно любил отечество и с гордостию находил в истории и настоящем времени залоги тех благодеяний, которые воздаст оно некогда роду человеческому. Науку ставил он выше всего, но не в мертвых буквах, а в живом умозрении, с сердечным участием; и в самом деле, знания составляли часть его тела, часть его бытия. Он радовался младенчески всякому благому успеху, общему и частному; любил людей и старался оправдывать их даже в самых предосудительных действиях. Кто знает, говорил он, какие впечатления, близкие или дальние, побудили несчастного к этому преступлению, и, может быть, оно есть математическое следствие прежних причин. При таком расположении духа личные враги, разумеется, не имели для него собственных имен. Самое зло он почитал только средством стеснительным, умножающим упругую силу добра; зла в природе, по его мнению, и не было; разве только добро отрицательное.
Этот молодой человек влюбился в одну девушку, достойную его священного жара. Читатели могут судить, какие чувства питал он к ней… Но всего лучше пусть познакомятся они с ним из собственных отрывков, которые нашел я в его бумагах и в которых, при всем беспорядке, небрежности, пропусках, ясно отражается прекрасная душа его.
«…Милая девушка! Как приятно мне разговаривать с нею, передавать ей свои мысли о святых предметах человеческого знания. — Она понимает меня, чувствует всякое слово. — Шиллер скорбел, что редко удается найти такого человека между современниками, даже между потомками. Я нашел его. — Разговор с нею мне наука: я сам яснее узнаю то, что хочу объяснить ей. — Это желание дает мне новую силу, раздвигает пределы моей мысли…
Какую доверенность имеет она ко мне! — Адель! Я не употреблю ее во зло. Я говорю тебе не то, что лепечут другие, часто противное — но да не смеет ни один несмысленный называть это ложью. — Чистый, священный огонь буду я раздувать на алтаре непорочной души твоей. Они, жалкие, хотя и добрые невежды, оскверняют его неумовенными руками своими. Прочь! Прочь! не прикасайтеся!
Я прочел ей свое рассуждение о просвещении как первой силе государства, без которой нет ни твердого благосостояния, ни могущества [1]. Ни одна новая мысль, ни одно новое выражение не ускользнуло от ее внимания. Это дорого для автора. Все оценено по достоинству. — И какими взглядами выражались ее удовольствие и благодарность! Она слушала с таким участием, как будто б я читал ей пророчество о будущей ее жизни. Чистая, юная душа ее жаждет познаний; это умилительное зрелище, картина Рафаелева.
Прослушав все сочинение, она сказала мне тихо… с неизъяснимою прелестью: «Как сладостна должна быть для автора надежда, что целые веки голос его будет тревожить сердца людей достойных, очищать, в горняя возносить их дух…»
Друг мой! Я принимаю твое предвещание!
Вчера гуляли мы с нею по полю. Сбиралась гроза. Вдали глухо закатывался гром. Тучи быстро носились в воздухе, но, всякую минуту готовые столкнуться, разносил ветер. В природе была какая-то нерешительность. Мы поспешили домой и на балконе дожидались величественного явления. Вдруг молнии засверкали гром, приблизясь, загремел. «Таким временем должны бы только наслаждаться поэты», — сказала Адель. «Они только и наслаждаются, — отвечал я, — толпа здесь слышит стук, от которого затыкает уши, и видит блеск, от которого щурит глаза».
Три года знаю я ее и чувствую, что стал лучше. Как жаль, что не знал ее прежде. — Я думаю только об том, как бы ей понравиться, а ей понравиться можно прекрасным, необыкновенным!
И собою она прелесть! — В ее темно-голубых глазах какая доброта, кротость! — Черные волосы, подобранные спереди в две кисти, как мило опускает она над бровями! Но всего больше мне нравится ее маленький ротик, подбородок. Ей-богу, на ее лице ясно видишь спокойствие, — этого мало, как бы объяснить, — чувствуешь, что эта душа, довольная собою, блаженствует и… Нет, не умею выговорить — предосадно! — А родимое пятнышко, а тонкий рубчик около губ, а белые щеки, особливо когда они зарумянятся на холоде под снежною пылью или в минуту сердечного чувства. Как тогда поднимается ее высокая грудь! Недавно мы читали с нею об энтузиазме у госпожи Сталь. Она задыхалась! О! она чувствует сильно, горячо.
В ее походке, в ее движениях — Поэзия. Голос мягкий, сладкий. Когда она говорит, так приятно отзывается в ушах моих. — Однако ж странно! Многие утверждают, что она не хороша собою. И нос широк, и лоб велик. Невежи! Только мне она показывает красоту свою. Я вижу ее, я один достоин поклоняться ей!
«В чем состоит счастие?» — спросила меня Адель, не помню, к чему-то, прохаживаясь со мною по зале после обеда. — «Я могу отвечать вам на это одним словом», — сказал я, остановясь и взглянув на нее быстро. Этот взор, верно, был нескромен. Она покраснела и нарочно уронила кольцо, чтоб, наклонясь, скрыть свою краску. — «Нет, — отвечала лукавая, оправясь, — о таком любопытном предмете мне желалось бы услышать от вас больше». — «Извольте, я рад говорить сколько вам угодно, но не пеняйте: вы сами выбрали ответ темнее. Счастие состоит в наслаждениях». — «Эпикуреец… Что вы?» — «Извините — это общее место». — «Виновата, виновата. В каких же наслаждениях? Вы переменили только слово». — «В наслаждениях ума, сердца, воли». — «Опять с своей системой. Я думала об ней. Ум наслаждается знаниями, сердце — чувствованиями, воля — действиями — так? Но я опровергну вас примерами: кто действовал больше Наполеона, чувствовал больше Руссо, знал больше Фауста — а разве они были счастливы?» — «Comparaison n'est pas raison»
[2]
, но кто ж вам сказал, что Наполеон, завидев знамя Дезе при Маренго, или подписывая Кодекс, или возлагая на себя корону Карла Великого в соборе Нотрдамском [3], не был счастлив? А Руссо, поверьте, катаясь в лодке около острова Св. Петра, пишучи письма к Юлии [4], имел такие минуты, каких мало бывает на земле. — Фауста я терпеть не могу за его клевету на знание, и, верно, мы доживем до того времени, как новый поэт, воспитанник религии и философии, искупит это досадное для меня произведение славного Гете. Я поставлю вам в пример Архимеда, который бегал по улицам, крича: «Нашел, нашел!», Кеплера… и мало ли кого. — Но вы сами скажите, какое несравненное удовольствие вы ощущаете, уразумевая какую-нибудь глубокую мысль». — «Правда, — но это только минуты счастливые, а вся жизнь…» — «Иною минутою можно променяться на целую жизнь; примите еще в соображение, что этим людям мешали страсти». — «А как избавиться от страстей?» — «Читайте Евангелие. Средство есть, и если мы не умеем, не хотим пользоваться им, то должны винить себя, а не жизнь. — По тем минутам, которые нам, огрубелым, испорченным, развращенным людям доставляет чувство, знание, действие, можно судить, что бы они доставили нам в гармонической связи, если б мы были цели яко голуби [5]. Это идеал, и расстоянием от него определяется мера настоящих наших участков». — «Вот вам еще возражение: к такому счастию способны очень немногие, а весь род человеческий — страшно подумать!» — «Не беспокойтесь, в природе все устроено премудро, и у крестьянской старухи так же трепещет сердце, когда она крестится на произведение суздальского иконописца, как и у Жуковского при взгляде на Мадонну [6]. Деревенскому мальчишке резные вычуры на старостиной избе верно нравятся больше непонятных произведений Баженова или Михайлова [7]. Линней десятью органами чувствует счастие, а рудокопатель двумя; но лишь бы они были удовлетворены, последний не будет тосковать о неведомых наслаждениях, и сытости меры нет. — Птица разве счастливее растения? — Только наблюдатель, созерцающий предвечные законы божий, указывает те наслаждения, которых человек вообще искать должен. — К сожалению, на свете не много еще Массильоновых избранных [8], не много людей, которые, по выражению Языкова, были бы достойны чести бытия [9], которые понимали бы, что такое человек, и старались достигать его высокой цели. Прочие — толпа, занята мелочью и так покорна обстоятельствам — земле, что не смеет и смотреть на небо. — И эти оглашенные презирают посвященных, смеются над ними, называют их безрассудными мечтателями. Голос их так шумит во всяком ухе, что даже я кажусь себе смешным, говоря вам это. Но наступит наконец блаженное время: род человеческий совершенствуется…» — «Ваша правда, ваша правда!» — воскликнула Адель и ушла от меня в сильном смятении духа.