Колокола
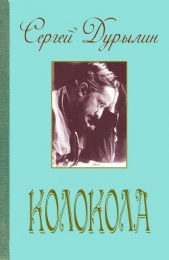
Колокола читать книгу онлайн
Написанная в годы гонений на Русскую Православную Церковь, обращенная к читателю верующему, художественная проза С.Н.Дурылина не могла быть издана ни в советское, ни в постперестроечное время. Читатель впервые обретает возможность познакомиться с писателем, чье имя и творчество полноправно стоят рядом с И.Шмелевым, М.Пришвиным и другими представителями русской литературы первой половины ХХ в., чьи произведения по идеологическим причинам увидели свет лишь спустя многие десятилетия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Василий долго стоял над могилой. Горсть земли не бросил он в могилу, — а теперь руками разравнивал песчаный холмик. Он не слышал, как второй соборный священник, отец Георгий, напутствовавший гроб в могилу, сказал ему, разоблачившись:
— Ну, раб Божий Василий, ныне ты — господин звона! Шествуй по стопам предшественника.
Не слышал он, как его тронул за рукав Чумелый:
— Будет. Пойдем.
Василий и не плакал: просто ему отходилось от могилы, — и он отстранял всякого, кто хотел его отвести. Гриша Потягаев, улыбаясь, взял его за руку:
— Пойдем, Василий Дементьич, без всяких яких, помянуть покойника.
И на это «пойдем» — Василий ответил:
— Пойдем.
Поминали в трактире Рыкунова, куда ходили рабочие с Ходуновской фабрики и мещане из Слободки. В трактире, на чистой половине, с говорящим скворцом в клетке, собрались прямо с кладбища купец Пенкин, конторщик фабрики Ходуновых Уткин, переплетчик Коняев, старинщик Хлебников, чиновник из казначейства Усиков. Это все были любители звона, почитатели покойного Николы Мукосеева. Был тут и Чумелый. Звали и протодиакона Глаголевского, но он отказался:
— Рад бы душой: уважал покойного, но мне по сану непозволительно. Поминовение творится в трактире…
Но, чтобы не огорчать поминающих, предложил вместо себя псаломщика Порфироносцева:
— Бас его, по весу, немного разве не вытянет против моего. Он вам устроит нужное восклицание.
В «чистую» трактирщик приказал никого не пускать сторонних. Гриша притворил за Васильем дверь.
Василий, молча, поклонился всем.
— Жил человек, — и нет человека. Помянуть надо: хоть тем в памяти утвердить, — сказал Пенкин.
— Благодарны мы ему, — поддержал его ходуновский конторщик Уткин, — радовал звоном.
— Вот и помянем, без всяких яких, — улыбнулся Гриша. — Сейчас блины подадут, а кутья на столе. Помолебствуйте, Диомид Диомидыч.
Псаломщик Порфироносцев откашлялся и прочел молитву перед едой, и к ней прибавил «Со святыми упокой». Он же начал кутью, перекрестив трижды:
— Упокой, господи, раба Николая. — Отведав, передал Грише.
Хлебопеков, в серебряных очках, с голубою бородавкой, зачерпнув ложечку кутьи, сказал:
— Поминаем человека, имя коего, уповательно, останется в летописях града Темьяна.
— А есть такие? — спросил переплетчик Коняев, и не без лукавства прикрыл нижним веком левый глаз: крупный, серый, веселый.
— Есть-с, — строго поглядел на него Хлебопеков.
— Любопытно бы на них взглянуть.
— Письмéн не разберете, молодой человек.
— В лупу можно, — пробурчал конторщик Уткин.
Но Хлебопеков продолжал торжественно:
— Да-с, останется. Это был мастер своего дела, и преосновательный-с! Звон его был достопримечтальность. В путеводителе упоминания заслужил.
— В путеводителе и наша Княжеская упомянута, — хмуро буркнул Уткин.
— Во всем согласен с уважаемым Пафнутьем Ильичем, — сказал казначейский чиновник Усиков, человек очень аккуратный и щепетильный, в белом кителе, — но не могу не добавить двух слов.
Он проглотил кутью, так как до него дошла очередь.
— Звон — государственной важности предмет. Безусловно, так. Недаром, никому для частного употребления не дозволено прибегать к звону. О церковном назначении звона я не призван изъяснять. Звон, а стало быть, и производящий его, — есть напоминатель. О чем? Разумеется, о долге, об обязанностях — о религиозных, — Усиков придержал речь для аффекта, — и гражданственных. Звон приводит обывателя в чувство…
— Берет за шиворот, — вставил Уткин и, крякнув, выпил очищенной.
— Предпочтительнее другое выражение, но смысл вами уловлен, — наклонил голову в сторону Уткина. — Напоминает обывателю о законе.
В это время начали обносить блинами, и аккуратный Усиков выждал, когда первый блин благоприлично лег в желудке, и приятно продолжал:
— Возвещает о долге человека и гражданина. В колоколе слышен голос совести общественной. Колокол — гражданин.
Хлебопеков задержал полблина на вилке и осведомился:
— Не хватили ли, вы, батюшка, а еще ничего, кажется, не пили-с? «Колокол» издавал известный вольнодумец Искандер, так тот действительно и о гражданстве возвещал, — в Сибири, в рудниках-с, обедню слушать.
— Вы о вольнодумстве, Пафнутий Ильич, а я о законе. Я о гражданском значении церковного колокола, — кажется, ясно.
— Ясно, — воскликнул Уткин, — и будет! Выпейте лучше.
Сам налил три рюмки: две, одну за другой, выпил сам, а третью протянул Усикову.
— Без всяких яких, выпьем, — поддержал Гриша. — Покойник был душевный человек: это главное. По душе и помин творим.
— Позвольте, я докончу, — не унимался Усиков. — Я говорю о гражданском значении такой должности, как звонарь…
— Это не должность, — прервал Уткин.
— Что же-с? — обидчиво и спесливо осведомился Усиков.
— Это — искусство.
— Не сан ли? — вставил осторожно, не прожевавши икру, Порфироносцев.
— Сан к духовному относится, — сказал Пенкин.
— А звон — разве не духовное?
Тут вступился Коняев — сероглазый и веселый. Он все катал шарики из хлеба и один за другим бросал их в рот.
— По мнению господина Усикова, звонарь — по юридическому ведомству, вроде как бы воздушный товарищ прокурора: бдит над законами. А вот, господин Порфироносцев говорит, что — по ведомству православного вероисповедания…
— А вы по какому ведомству утверждаете, господин Коняев? — обидевшись, спросил Усиков, и шершаво повел по сутулой, крепкой фигуре Коняева маленькими, карими глазками.
— Без ведомств! — воскликнул пивший рюмку за рюмкой Уткин. — То-то и дело, что без ведомств! Без мундира!.. Вот, кто знает, что такое колокол, вот кто! — Он тыкнул в Василия, и потянулся чокнуться с ним. Но Василий отвел его рюмку и, молча, выпил свою. Его брала тоска. Он молчал.
Хлебопеков вздохнул и сказал:
— Все мы склонны к говорению речей. Наше же дело помянуть, а уповательно, не разглагольствовать. Господин Уткин, ближе к поминовению.
— Очень близко, — спокойно сказал Уткин. — Рядышком. Я на кладбище не был, а сюда пришел. Не люблю смотреть, как человека зарывают. Жил-жил человек, работал, работал, — и только всего и наработал, что зарыть, землей завалить. Это и собаку так можно, и кота дохлого. Это всем полагается по требованиям санитарии. А неужели же человеку не положено никакого отличия от кота?
— Земля еси и в землю отыдеши!— вздохнул Порфироносцев.
— Правильно. Точно. Нучно даже: земля и в землю. Куда ж еще? Не в небо ж? Но, повторяю, нужно же какое-то нибудь отличие человеку?
— Памятник поставят, — сказал Пенкин, поливая блин маслом.
— Памятник? Э, врешь! Памятник — не то. Хоть и под памятником, а землей-то все-таки засыпят. Нет, надо что-нибудь человеку: жечь бы, что ли, на высотах. Вот, мол, смотрите, не полено осиновое, а мозг человеческий горит. Сколько в мозгу огня было, в живом! Ну, и жечь бы! Огнь еси и в огнь отыдеши! Красиво бы надо с человеком поступать, а то глаза запорошить — и конец! Фу, не хорошо. Вот и не хожу я на кладбище. А сюда пришел. Помянуть Николая Мукосеева. Умер человек — и не вспомнить? «Вечная память»! Ах, враки: не «вечная»! Просто — никакой! Бугорок — баста. Молчанье. Растительность. Ничего больше. А я вот, Уткин, заявляю: помню — и буду помнить, и пока я жив, будет вечная!..
— Маловато! — засмеялся Хлебопеков.
— Маловато? — Врешь, много! Не вмещает человек в себе памяти, ничьей. Тесно ему и свое помнить, и на себя памяти места не хватает: где ж тут чужое помнить?.. Что такое колокол? Колокол — это гроза-с! Атмосферическое явление! Я, Уткин Сергей Никифоров, лежу в луже, — пьян-с, я сочинениями Пушкина, Александра Сергеевича, за ненадобностью, ватерклозет оклеил, я знаю наизусть «Братья-разбойники» — и бью по щекам жену свою, я ворую у нее пятачки из комода, — и вдруг-с, когда я в луже и Пушкиным уже оклеен ватерклозет, и вдруг-с из атмосферы мне: зык, молния звуков, гром сердца: «перестать! Пушкина с благоговением склей с непристойных стен и листы облобызай! Жене поклонись в ноги! Пятачок верни, превратив потом и слезами в сторублевку! Себя обрáзь!» Это все с атмосферы-с, от громов, — и в красоте несказанной, и без человечьего подлого указа, без человечьих приживалкиных гнусных наставлений. Это ливень на душу! А если душу, получив образование, не признаете, то на тело-с, внешнее и внутреннее-с! И мне, Уткину, не помнить того, кто этот дождь на меня изливал? Это недостаточно. Вечная память, вечная память!..


























