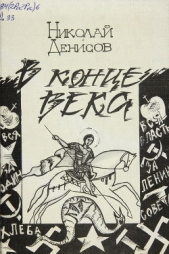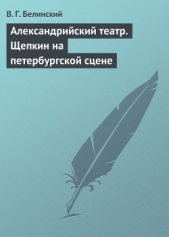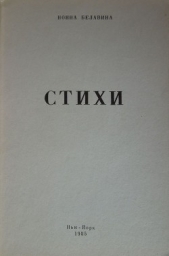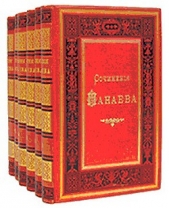Очерки литературной жизни

Очерки литературной жизни читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– - Ну, что нового в литературе, господа? -- спросил актер, когда друзья уселись и закурили по трубке.
– - Ничего,-- отвечал многозначительно белокурый фельетонист.
– - Я кончил свою поэму "Колыбель человечества",-- сказал длинный поэт.-- Но знаю, что скажут другие, но мне кажется она лучшим моим произведением. Я вот ему (поэт указал на драматурга). читал ее: он очень хвалит.
– - В последнее десятилетие,-- с поспешностью подхватил драматург,-- никакое произведение нашей литературы так глубоко не западало мне в душу. Жена моя просто впала в истерику; говорит, не читала отроду ничего превосходнее.
Услышав слово "жена", Зубков тотчас выскочил вперед и запел:
Жена, действительно, как древо
Познания добра и зла:
Посмотришь справа, взглянешь слева,
Так браки -- чудные дела…
Никто не обратил внимания на его выходку. Разговор продолжался.
– - Супруга его имеет очень тонкий и образованный вкус,-- скромно сказал поэт, указывая на драматурга.
– - Поверите ли,-- продолжал драматург,-- я сам плакал навзрыд. Что бы, кажется! вымысел! пустяки! А между тем так и прошибают слезы!
При слове "пустяки" поэт нахмурился.
– - Ну, братец, не совсем пустяки! -- возразил он с досадой.-- Тут у меня была идея, глубоко значительная идея. Конечно, и идея для иных пустяки… как кто смотрит на вещи и как кто понимает. Вникни, да раскуси, да потом уж и говори -- пустяки! От таких пустяков хоть у кого вот здесь,-- поэт указал на голову,-- повернется. Не раз придется сходить за словом в этот умственный карман, из которого Гете и Шиллер почерпали свои великие создания, а издатели "Гремучей змеи" ежедневно вытаскивают столько гнусных клевет и сплетней!
Так как Свистов произнес это тоном остроты, то Посвистов счел нужным захохотать.
– - Особенно я обратил внимание,-- продолжал поэт, обращаясь к белокурому фельетонисту,-- на устранение неточности выражений, которою вы, Павел Данилович, упрекнули первую мою сатирическую поэму. Могу вас уверить, голос ваш не был голосом вопиющего в пустыне.
Фельетонист поправил очки.
– - То есть ты, братец,-- возразил драматург, тщетно стараясь удержаться от смеха, возбужденного в нем остротою, которую он готовился произнесть,-- соблюл в точности наставления Павла Даниловича касательно неточности выражений.
Актер толкнул меня локтем. Белокурый фельетонист посмотрел на драматурга-водевилиста с явным состраданием. Свистов захохотал.
Когда всё пришло в прежний порядок, Свистов взял фельетониста под руку и начал ходить с ним по комнате говоря:
– - Мне бы хотелось слышать ваше суждение о моей поэме, прежде чем она будет напечатана. Если б вы были так добры…
Свистов вынул из бокового кармана небольшую тетрадку и потянул сотрудника в соседнюю комнату.
– - Уж если читать, так читать во всеуслышание!-- вскричал вслед ему водевилист-драматург, угадавший тайную мысль скромного друга.-- Полно, братец, скромничать! Ступай сюда!
По долгу хозяина Хлыстов присоединил свой голос к голосу драматурга; актер тоже. Поэт воротился, стал в позицию и, как бы чувствуя великость жертвы, на которую присутствующие решались, сказал:
– - Одну главу, господа, не больше.
– - Нужно очень! -- проворчал с досадою Зубков, нетерпеливо желавший разрешиться своим анекдотом, и отошел к окну.
Поэт начал:
Есть край, где горит беззакатное солнце
Алмазным пожаром в безбрежной дали
И сыплет горстями лучи, как червонцы,
На лоно роскошной и щедрой земли;
Где северный холод, вьюга и морозы
Сердец не сжимают, не сушат костей,
Где розы -- как девы, а девы -- как розы,
Где всё наслажденье, восторг для очей,
Где тигр кровожадный свободно кочует
И робкая серна находит приют,
Но где человек человека бичует,
Где плачут и стонут, где режут и жгут,
Где волны морские окрашены кровью,
Усеяно трупами мрачное дно…
– - Страшно! у меня волосы дыбом становятся! -- сказал актер, украдкой зевая в руку.
– - Вроде Дантова ада,-- заметил Зубков, никогда не читавший Данте.
– - А ваше мнение? -- спросил поэт нетвердым голосом у фельетониста.
– - Нельзя не согласиться, что картина варварских восточных обычаев изображена с потрясающим сердце эффектом,-- отвечал фельетонист значительно…
– - Мастерская картина,-- закричал драматург.
– - А вообще о достоинстве поэмы что вы думаете? -- спросил поэт, снова обращаясь к фельетонисту.
– - Позвольте мне удержать, до некоторого времени, мое мнение при себе,-- отвечал тот.-- Вы прочтете его, когда поэма явится в свет, в ближайшем нумере нашего издания…
Поэт побледнел и в смущении начал укладывать, к общей радости, рукопись свою обратно в карман.
– - Знаем мы ваши ближайшие,-- сказал огорченный друг его с некоторою досадою,-- далека песня!
Свистов счел нужным захохотать, потому что, по понятию господ, посещающих Александрийский театр, в последних словах драматурга-водевилиста заключался каламбур. Но смех поэта был далеко не так силен, сердечен и продолжителен, как прежде. Холодность фельетониста явно его опечалила. Все это заметили, и всем сделалось как-то не совсем ловко. Последовала довольно длинная пауза. Зубков не преминул ею воспользоваться: очень кстати явился на первом плане с своим анекдотцем и благополучно досказал его…
– - Вздор, братец,-- сказал актер.-- Я знал наперед, что вздор. Сам выдумал…
– - Что? как? вздор! -- возразил Зубков шутливо обиженным тоном и пропел:
Задеть мою амбицию
Я не позволю вам,
Я жалобу в полицию
На вас, сударь, подам.
Хоть смирен по природе я,
Но не шутите мной,
Я -- "ваше благородие",
А вы-то кто такой?
А водевилист-драматург, выслушав внимательно анекдот, приятно улыбнулся и сказал вполголоса: "Помещу в водевиль!"
Комнатки Хлыстова скоро начали наполняться народом. Пришел страстный любитель театра и литературы -- пожилой, очень добрый человек, в эполетах, с майорским брюшком и лысиной от лба до затылка. Он снял саблю и, сказав: "Подождите здесь, Софья Ивановна!", поставил в угол, после чего с грациею поклонился ей и вмешался в толпу. Он говорил всякому встречному "ты" и "монгдер" и отличался необыкновенною любовью к некоторому лакомству,-- любовью, которую, думал он, разделяет с ним вся вселенная. Раз, встретясь со мною на Невском проспекте, он с необыкновенною живостью схватил меня за руку и вскричал: "Моншер, моншер! Представь себе… Если б ты знал… Ах! если б ты знал!.." -- "Да что такое?" -- спросил я. Он нагнулся к самому моему уху и сказал шепотом, замиравшим от избытка счастья: "Мне прислали пять пудов сала из Малороссии!.." Он не только ел свиное сало пудами, но советовал лечиться им от всех болезней и беспрестанно рассказывал примеры чудотворного действия свиного жиру на человеческое здоровье.
Потом явился турист, недавно возвратившийся из-за границы, человек с кривыми ногами, рыжею бородою, дурно говоривший по-французски и в пылу разговора нередко употреблявший фразу: "У нас в Париже!" Он явился сам-друг с записным любителем театра и литературы, господином чрезвычайно красивой наружности, который имел обыкновение через каждые полчаса кричать своему человеку: "Девка, водки!" -- и очень хорошо угощал своих приятелей по понедельникам. Вслед за ним предстал Павел Петрович Сбитеньщиков -- человек довольно значительного и почтенного вида, старинный театрал, закулисный волокита первой руки, непременный член всех холостых закусок и вечеринок и, в дополнение всего, лунатик. По крайней мере так думали те, у которых ему случалось ночевать. Замечали, что он ночью непременно ходил и даже иногда рылся в шкафах и комодах и, ошибкой, уносил из гостиниц черешневые чубуки. Пришли два сочинителя -- дядя и племянник, которые очень счастливо играли во всякие игры, когда им приходилось играть за одним столом. Оба они писали очень много, но подписывался под статьями по большей части один, именно дядя, для того, как выразился какой-то остряк, что "уж если позориться, так которому-нибудь одному". Наконец, в заключение, прибыли несколько театральных чиновников и актеров средней руки, которые приглашены были для балласта. Каждый, как водится, сказал какую-нибудь остроту, закурил трубку и сел или принялся меланхолически прохаживаться в ожидании завтрака. Разговор разделился на партии; гости сидели и двигались попарно. Офицер, называвший свою саблю "Софьей Ивановной", рассуждал с Хлыстовым о благотворном влиянии свиного сала на развитие не только физических сил, но и умственных способностей, что он испытал над собой. Зубков рассказывал в сотый раз актерам анекдот о фиолетовой морде, придуманный с целью довести до сведения всех и каждого, что он приехал в коляске. Фельетонист уговаривал издателя красивой спекуляции, не доставлявшей выгоды, купить у него и напечатать в одной книжке мелкие статейки его, разбросанные в разных журналах. Турист беседовал с поэтом и актером, которые слушали его -- первый с подобострастным вниманием, второй с какою-то двусмысленною улыбкою.