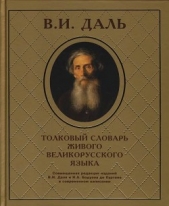Двое в барабане

Двое в барабане читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А. Фадеев
Посмертное письмо складывалось у Фадеева мучительно долго, хотя датировано последним днем жизни. Он не доверял его текст черновикам, не потому, что опасался преждевременной огласки. Он не хотел видеть его текст до срока прописанным на бумаге.
Не будь первой строки обращения в ЦК, его можно было принять за нелицеприятную, резкую докладную записку. Однако заглавная строчка определяла особый смысл сказанного: "Не вижу возможности больше жить!
Искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь не может быть поправлено..."
Каждое слово писателя рождалось в бесконечном споре "вожака масс, идущего впереди" с белобрысым ушастым юношей, оставленным автором "Разгрома" после гибели отряда Левинсона на таежном Тудо-Вакском тракте. Непременным очевидцем этих сшибок был человек несколько странного вида. Детали маршальской формы сочетались на нем с одеждой довоенного покроя. Генеральские, с лампасами брюки были не как положено - навыпуск, а заправлены в мягкие черные сапожки, располагающие к ходьбе. Вместо форменного кителя был известный миллионам френч, но с маршальскими погонами, а вместо генеральской была знаменитая фуражка цвета "хаки".
Естественно, и это было для Фадеева очевидным, без товарища Сталина, а это был, разумеется, он, не разрешалась ни одна проблема. Было бы странным, окажись это не так.
Больше и горше всего Фадеев терзался численной скудностью собственного творчества.
Вспоминал свои сетования большевичке Розалии Землячке о загруженности партийными делами, признание матери еще в 1936 году, что литературная работа - это главное, что он должен делать в жизни. Советовался в те же годы с милым его сердцу Юрием Либединским: "Уж лучше перейти на партийную работу, чтобы или вернуться к литературной работе с новыми силами, или стать партработником, иначе неопределенность, прозябание, пустошь..."
Не раз, в сердцах, цитировал Некрасова: "Мне борьба мешала быть поэтом..."
Говорил с грустью, пожимая плечами: "Я всего-то написал две книги..."
Юрий Либединский признавал с горьким сожалением: "Саша не мог не сознавать, что в нем погиб большой, истинно русский писатель..."
Да он сам признавал, "что не за тем столом сидел". Но знал: дело не только в этом. Горький тоже не был затворником в "башне из слоновой кости", а создал тридцать томов хороших книг. Он часто возникал перед глазами Фадеева, то в Переделкино, в секретарском кабинете, а иногда являлся прямо на улице в известной шляпе, расстегнутом пальто и с неизменной тростью. Окал, сутулился, хмыкал, покашливал.
"Говорил я вам бросить руководство. Погубите дарование свое, ибо писатель обязан работать в поте лица своего за единственным столом. Нет литераторов по одному нутру, без труда".
Горький виделся Фадееву будто живой, раскатывая нижегородское "о". "Круто начали вы, создав "Разгром". Прямо как Чехов, обрисовав "Степь". Напрасно только раздраконили себя до костей. Революция дело сердитое, но временное. Не должно оставаться смертному без жалости и тоски. Все одно, что потерять тень. Антон Павлович по капле выдавливал из себя раба, а вы захотели остаться без ласковой души своей".
Каждое слово корифея попадало в цель. Фадеев мог бы возразить, что писание - "адская работа", когда случается "раз на Юрия", что ему было "тяжело находиться слишком близко к той вышке, где, вероятно, художнику с его впечатлительностью быть, прямо скажем, не под силу; что такие скачки вконец издергали его уже давно психически, потому написал меньше, чем должно, причем с большим напряжением".
Но имелись причины на то. Серьезные причины. "Были по горло заняты организационной, пропагандистской, политической борьбой. Это был приказ революционной эпохи. Мы приняли его..."
Горький отвечал, сверкнув юношеским взглядом: "Не в обиду хочу спросить: где советские Гоголи, Толстые, Чеховы?... Оскудела талантами Русь? Не верю. Сколько благословил больших дарований! Где они? Создали одну, две достойные книги и почили..."
Это был для Фадеева самый тяжелый вопрос. Ответ на него прозвучал скорбной нотой в предсмертном письме: "Лучшие кадры литературы в числе, которое даже не снилось царским сатрапам, физически истреблены или погибли, благодаря преступному попустительству власть имущих. Лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте; все остальные, мало-мальски способные создавать истинные ценности, умерли, не достигнув 40-50 лет.
Литература - эта святая святых - отдана на растерзание бюрократам и самым отсталым элементам народа..."
За день до выстрела, встречаясь на даче в Переделкино с Юрием и Лидой Либединскими, говорил об этом же. Спрашивал, как о главном: "Интересно было бы подсчитать, сколько у нас осталось писателей, вступивших в Союз до тридцать восьмого года". Отвечал себе же непривычно тихо, печально: "Ни один отряд интеллигенции не понес такого урона, как понесли за последние двадцать лет писатели, уничтоженные вражескими руками Ежова, Берии". Он знал эту цифру, она равнялась шестистам.
Нервничал, не находил места большим красноватым рукам. Убеждал кого-то невидимого: "Писателей надо беречь. Я буду говорить об этом на всех широких собраниях..."
Сгинувшие безвременно литераторы являлись ему ежедневно, ежечасно, стоило лишь отвлечься от дел и остаться одному... Они выглядели повседневно, буднично, такими, какими их знал. Вот только головы у всех были обмотаны бурыми от засохшей крови бинтами. Одни проходили, отворачиваясь, другие кивали сдержанно. Прозаик Зазубрин, живший прежде на даче Фадеева, заглядывал в его кабинет. Усаживался за письменный стол. Не найдя свою, брал ручку Фадеева, пробовал что-то писать. Но перо скрипело, не слушалось... Он морщился, поправлял повязку на голове. Владимир Яковлевич будто предвидел свой конец, создав редкую по силе повесть "Щепки" о красном терроре...
...Уцелевшая в ГУЛаге писательница Анна Берзинь спорила в компании расстрелянных рапповцев Льва Авербаха, Владимира Киршона, Бруно Ясенского, доказывая, не считаясь с присутствием Александра Александровича, что "всех "заложил" Сашка Фадеев".
Темпераментный Авербах возражал непривычно спокойно: "Ни в коем случае. Да, Фадеев мой старый недруг, но, справедливости ради, должен признать: он только участвовал в исключении нас из партии и писательского Союза, утверждал негативные характеристики. А приговоры выносили и приводили в исполнение другие товарищи - известный принцип инквизиции".
"Все в дерьме..."
Оглядывая поредевшие ряды писателей-ветеранов, горевал по уцелевшим не меньше, чем по ушедшим из жизни.
Говорил другу Корнелию, показывая рукой на губы: "Мы, Корнелий, сейчас все в дерьме. Никто после того, что произошло, по-настоящему писать не сможет. Ни я, ни Шолохов. Никто из людей нашего поколения".
Корнелий спрашивал как бы простодушно: "Саша, почему так думаешь?"
Сердясь на притворное любопытство Зелинского, кричал, не сдерживаясь: "Да потому так думаю, что исковерканы мы".
Теряя присущий ему оптимизм, большевистское умение видеть хорошее в плохом, написал после II съезда писателей из больницы поэту А. Суркову: "Никакого расцвета советской литературы в послевоенный период нет, и не было в помине, а есть упадок, серость, бледная немочь". На что получил гневную отповедь секретаря ЦК Поспелова: "Партиец, один из руководителей Союза писателей в роли паникера... Надо поставить на место..."
Идеи перестройки писательского союза одолевали Фадеева еще до смерти Сталина. Тогда ему казалось, что вся угроза творчеству идет от канцелярщины. Он предполагал распустить писательский союз и сделать что-то вроде творческого клуба.
После кончины Сталина пытался в одиночку расшатать прутья коллективной клетки, где, как в колонии педагога Макаренко, один отвечал за всех, а все за одного.
Он доказывал, не жалея голоса: до тех пор, пока не будет понятно абсолютно всем, что основное занятие писателя - это его творчество, а все остальное есть добавочное, второстепенное, без такого понимания хорошую литературу создать невозможно. Советская литература катастрофически катится вниз.
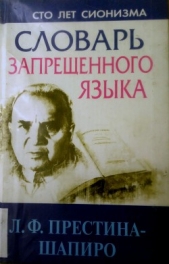
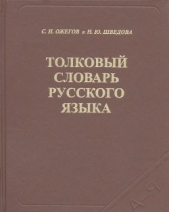
![Русский орфографический словарь [А-Н]](/uploads/posts/books/80754/80754.jpg)