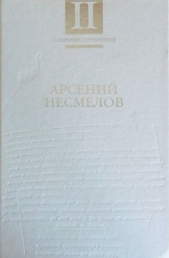Том 15. Рассказы, очерки, заметки 1921-1924

Том 15. Рассказы, очерки, заметки 1921-1924 читать книгу онлайн
В пятнадцатый том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1921–1924 годах. Все они, за исключением очерка «О Михайловском», входили в предыдущие собрания сочинений.
Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким. В последний раз большинство из них редактировалось писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Сделаем так: вы уезжайте в Нижний, а я останусь здесь, подумаю и напишу вам…
Почтительно кланяюсь ей, как это сделал герой какого-то романа, прочитанного мною, и ухожу. По воздуху.
Зимою она, с дочерью, приехала ко мне в Нижний.
«Бедному жениться — и ночь коротка», насмешливо-печально говорит мудрость народа. Я проверил личным опытом глубокую правду этой пословицы.
Мы сняли за два рубля в месяц особняк, — старую баню в саду попа. Я поселился в предбаннике, а супруга в самой бане, которая служила и гостиной. Особнячек был не совсем пригоден для семейной жизни, — он промерзал в углах и по пазам. Ночами, работая, я окутывался всей одеждой, какая была у меня, а сверх ее — ковром и все-таки приобрел серьезнейший ревматизм. Это было почти сверхестественно при моем здоровье и выносливости, которыми я в ту пору обладал и хвастался.
В бане было теплее, но когда я топил печь, все наше жилище наполнялось удушливым запахом гнили, мыла и пареных веников. Девочка, изящная фарфоровая куколка с чудесными глазами, нервничала, у нее болела голова.
А весною баню начали во множестве посещать пауки и мокрицы, — мать и дочь до судорог боялись их, и я часами должен был убивать насекомых резиновой галошей. Маленькие окна густо заросли кустами бузины и одичавшей малины, в комнате всегда было сумрачно, а пьяный капризный поп не позволял мне выкорчевать или хотя бы подрезать кусты.
Разумеется, можно бы найти более удобное жилище, но мы задолжали попу, и я очень нравился ему, — он не выпускал нас.
— Привыкнете! — говорил он. — А то, заплатите должишки и поезжайте хоша бы к англичанам.
Он не любил англичан, утверждая:
— Это нация ленивая, она ничего не выдумала, кроме пасьянсов, и не умеет воевать.
Был он человечище огромный, с круглым красным лицом и широкой рыжей бородой, пьянствовал так, что уже не мог служить в церкви, и — до слез страдал от любви к маленькой остроносой и черной швейке, похожей на галку.
Рассказывая мне о коварствах ее, он смахивал ладонью слезы с бороды и говорил:
— Понимаю, — негодяйка она, но напоминает мне великомученицу Фемиаму, и за то — люблю!
Я внимательно просмотрел святцы, — святой такого имени не было в них.
Возмущаясь моим неверием, он сотрясал душу мою такими доводами в пользу веры:
— Вы, сынок, взгляните на это практически: неверов — десятки, верующих же — миллионы. А — почему? Потому, что как рыба сия не может существовать без воды, так ровно и душа не живет вне церкви. Доказательно? Посему — выпьем!
— Я не пью, у меня ревматизм.
Вонзив вилку в кусок селедки, он угрожающе поднимал ее вверх и говорил:
— И это — от неверия.
Мне было мучительно, до бессонницы стыдно пред женщиной за эту баню, за частую невозможность купить мяса на обед, игрушку девочке, за всю эту проклятую, ироническую нищету. Нищета — порок, который меня лично не смущал и не терзал, но для маленькой изящной институтки и, особенно, для дочери ее — эта жизнь была унизительна, убийственна.
По ночам, сидя в своем углу за столом, переписывая прошения, апелляционные и кассационные жалобы, сочиняя рассказы, я скрипел зубами и проклинал себя, людей, судьбу, любовь.
Женщина держалась великодушно, точно мать, когда она не хочет, чтобы сын видел, как трудно ей. Ни одной жалобы не сорвалось с ее губ на эту подлую жизнь; чем труднее слагались условия жизни, тем бодрей звучал ее голос, веселее — смех. С утра до вечера она рисовала портреты попов, их усопших жен, чертила карты уездов, — за эти карты земство получило на какой-то выставке золотую медаль. А когда иссякли заказы на портреты, — она делала из лоскутов разных материй, соломы и проволоки самые модные парижские шляпы для девиц и дам нашей улицы. Я ничего не понимал в женских шляпах, но, очевидно, в них скрывалось что-то уморительно-комическое, — мастерица, примеряя перед зеркалом сделанный ею фантастический головный убор, задыхалась в судорожном смехе. Но я заметил, что эти шляпы странно влияют на заказчиц, — украсив головы свои пестрыми гнездами для кур, они ходили по улицам, как-то особенно гордо выпячивая животы.
Я работал у адвоката и писал рассказы для местной газеты по две копейки за строку. Вечерами, за чаем, — если у нас не было гостей, — моя супруга интересно рассказывала мне о том, как царь Александр II посещал Белостокский институт, оделял благородных девиц конфектами, от них некоторые девицы чудесным образом беременели, и не редко та или иная красивая девушка исчезала, уезжая на охоту с царем в Беловежскую пущу, а потом выходила замуж в Петербурге.
Моя жена увлекательно рассказывала мне о Париже; я уже знал его по книгам, особенно по солидному труду Максима дю-Кан, она изучала Париж по кабачкам Монмартра и суматошной жизни Латинского квартала. Эти рассказы возбуждали меня сильнее вина, и я сочинял какие-то гимны женщине, чувствуя, что именно силою любви к ней сотворена вся красота жизни.
Больше всего нравились мне и увлекали меня рассказы о романах, пережитых ей самой, — она говорила об этом удивительно интересно, с откровенностью, которая — порою — сильно смущала меня. Посмеиваясь, легкими словами, точно штрихи тонко заостренного карандаша, она вычерчивала комическую фигуру генерала Ребиндер, ее жениха, который, выстрелив в зубра прежде царя, закричал вслед раненому быку:
— Простите, Ваше Императорское Величество!
Рассказывала она о русских эмигрантах, и всегда в словах ее я чувствовал скрытую улыбку снисхождения к людям. Порою ее искренность нисходила до наивного цинизма, она вкусно облизывала губы острым, розовым языком кошки, а глаза ее блестели как-то особенно. Иногда мне казалось, что в них сверкает огонек брезгливости, но чаще я видел ее девочкой, самозабвенно играющей с куклами.
Однажды она сказала:
— Влюбленный русский всегда несколько многословен и тяжел, а не редко — противен красноречием. Красиво любить умеют только французы; для них любовь — почти религия.
После этого я невольно стал относиться к ней сдержаннее и бережливей.
О женщинах Франции она говорила:
— У них не всегда найдешь страстную нежность сердца, но они прекрасно заменяют ее веселой, тонко разработанной чувственностью, — любовь для них искусство.
Все это она говорила очень серьезно, поучающим тоном. Это были не совсем те знания, в которых я нуждался, но — все-таки это были знания, и я слушал ее с жадностью.
— Между русскими и француженками, вероятно, такая же разница, как между фруктами и фруктовыми конфектами, — сказала она однажды лунной ночью, сидя в беседке сада.
Сама она была конфектой. Ее страшно удивило, когда, в первые дни нашей супружеской жизни, я, — разумеется, вдохновенно, — изложил ей мои взгляды романтика на отношения мужчины и женщины.
— Это вы — серьезно? Вы действительно так думаете? — спросила она, лежа на руках у меня, в голубоватом свете луны.
Розовое тело ее казалось прозрачным, от него исходил хмельный, горьковатый запах миндаля. Ее тоненькие пальчики задумчиво играли гривой моих волос, она смотрела в лицо мне широко, тревожно раскрытыми глазами и улыбалась недоверчиво.
— А, Боже мой! — воскликнула она, спрыгнув на пол и стала задумчиво шагать по комнате из света в тень, сияя в луче луны атласом кожи, бесшумно касаясь пола босыми ногами. И, снова подойдя ко мне, гладя ладонями щеки мои, сказала тоном матери:
— Вам нужно было начать жизнь с девушкой, — да, да! А не со мною…
Когда же я взял ее на руки, она заплакала, тихонько говоря:
— Вы чувствуете, как я люблю вас, да? Мне никогда не удавалось испытать столько радости, сколько я испытываю с вами, — это правда, поверьте! Никогда я не любила так нежно и ласково, с таким легким сердцем. Мне удивительно хорошо с вами, но — все-таки, — я говорю: мы ошиблись, — я не то, что нужно вам, не то! Это я ошиблась.
Не понимая ее, я был испуган ее словами и торопливо погасил ее настроение радостью ласк. Но все-таки эти странные слова остались в памяти моей. А спустя несколько дней, она, в слезах восторга, снова тоскливо повторила эти слова: