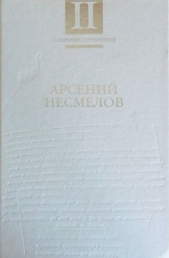Том 15. Рассказы, очерки, заметки 1921-1924

Том 15. Рассказы, очерки, заметки 1921-1924 читать книгу онлайн
В пятнадцатый том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1921–1924 годах. Все они, за исключением очерка «О Михайловском», входили в предыдущие собрания сочинений.
Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким. В последний раз большинство из них редактировалось писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Его очень утомила эта речь; посидев ещё несколько минут, я встал.
— Хотите идти? Принято, чтоб старые литераторы напутствовали молодых. Я — вдвое старше вас. Вы мне понравились, и я хочу вас обнять, — это и будет моим напутствием…
Тут разыгралась одна из наиболее странных и трогательных сцен, пережитых мною…
Потом, крепко поцеловав друг друга, мы расстались, не сказав ни слова более.
Я видел этого человека не более трёх-четырёх раз, — с каждым разом он становился мне всё более дорог и близок, но, в суете жизни, мне не пришлось уже говорить с ним один на один.
В мою «честь» был устроен обед в редакции «Жизни», различные люди говорили обязательные в таких случаях речи. Н.К. Михайловский сидел рядом со мною и, тыкая меня большим пальцем под рёбра, увещевал:
— Отвечайте же, сударь! Вам наложили целую поленницу комплиментов, — надо отвечать! Ну — кураж!
Я не умею говорить речей. Церемония обеда была убийственно скучна, едоки чувствовали себя нелепо, некоторые из них поглядывали на меня явно враждебно, насмешливо. Я сказал Николаю Константиновичу, что это мешает мне дышать.
— Привыкайте, — шутливо-строго сказал он вполголоса. — Ничего, так и следует. Было бы наивно думать, что ваш успех — всем приятен.
Потом я был у него на именинах или в день рождения, — не помню. Великолепно настроенный, Николай Константинович остроумно шутил, отвечал сразу на десяток вопросов, обращённых к нему, удивляя меня юношеской живостью.
Но — рядом со мною сидел П.Ф. Мельшин-Якубович и портил мне жизнь.
— Вы читаете «Искру»? — спрашивал он. — Читаете. Так. А я — жгу, когда она попадает в руки мне. Жгу.
Я впервые видел его и думал — вот фанатик! Потом оказалось, что это обыкновенный русский человек, добродушный и мягкий, несмотря на то, что жизнь ковала его тяжким молотом. Но в этот [день] он был почему-то крайне свирепо настроен против Маркса, марксистов, Струве и всё дудел в ухо мне жестокие слова, не позволяя слушать, что говорил Михайловский. А он говорил что-то интересное, возражая Н. Карееву и Н.Ф. Анненскому.
— Нет, — слышал я отрывки его горячей речи, — надобно опуститься как-то ниже философии культуры к философии быта, — к самому обыкновенному содержанию текущего дня, и тогда, может быть, обнаружится…
Мельшин, дёргая меня за рукав, спрашивал — знаю ли я его переводы стихов Бодлера?
Я — знал. И, судя по этим переводам, заключил, что Бодлер был весьма неуклюжий стихотворец.
— Странно, — сказал Мельшин. — По-моему — Бодлер должен бы нравиться вам…
А Михайловский говорил кому-то весело и громко:
— Я нажил сердце, которое обеспечивает мне быструю и безболезненную смерть…
В суете праздника я так и не нашёл удобной минуты спросить Николая Константиновича — что именно должно «обнаружиться»?
Вскоре я уехал. А в следующий приезд помогал нести гроб Михайловского на Волково кладбище.
Заметки из дневника. Воспоминания
Городок
…Сижу за городом, на лысых холмах, едва прикрытых дёрном; вокруг чуть заметны могилы, растоптанные копытами скота, развеянные ветром. Сижу у стены игрушечно маленького кирпичного ящика, покрытого железной крышей, — издали его можно принять за часовню, но вблизи он больше похож на конуру собаки. За дверью его, окованной железом, хранятся цепи, плети, кнуты и ещё какие-то орудия пыток, — ими терзали людей, зарытых здесь, на холмах. Они оставлены в память городу: не бунтуй!
Но горожане уже забыли: чьи люди перебиты здесь? Одни говорят: это казаки Степана Разина; другие утверждают: это мордва и чуваши Емельяна Пугача.
И только всегда пьяный старик нищий Затинщиков хвастливо говорит:
— Мы при обоих бунтовали…
С бесплодного, холмистого поля дома города, серые, прижатые к земле, кажутся кучами мусора; там и тут они заросли по крыши густой, пыльной зеленью. В грудах серого хлама торчит десяток колоколен и пожарная каланча, сверкают на солнце белые стены церквей, — это вызывает впечатление чистеньких полотняных заплат на грязных лохмотьях.
Сегодня праздник. До полудня горожане стояли в церквах, до двух часов ели и пили, теперь они отдыхают. Город безмолвен, не слышно даже плача детей.
День мучительно зноен. Серо-синее небо изливает на землю невидимый, расплавленный свинец. В небе есть что-то непроницаемое и унылое; ослепительно белое солнце как будто растеклось по небесам, растаяло. Жалкие, рыжеватые былинки на могилах неподвижны и сухи. Земля потрескивает, шелушится на солнце, как сушёная рыба. Влево от холмов, за невидимой рекою, над голыми полями струится марево, в нём качается, тает ушастая колокольня заречной слободы, — сто лет тому назад слобода эта принадлежала знаменитой Салтычихе, прославившей имя своё изощрённым мучительством крепостных рабов.
А город — накрыт облаком какой-то мутной, желтоватой пыли. Может быть, это — дыхание спящих людей.
Странные люди живут в этом городе. Владелец войлочного завода, человек солидный, неглупый, четвёртый год читает Карамзина «Историю Государства Российского», дошёл уже до девятого тома.
— Велико сочинение! — говорит он, уважительно поглаживая кожаный переплёт книги. — Царская книга. Сразу понимаешь — мастак сочинял. Зимним вечером начнёшь читать и — все дела житейские забудешь. Приятно. Большое утешение человеку — книга! Ежели она с высоты разума написана…
Однажды, играя пышной бородою своей, он предложил мне с любезной улыбочкой:
— Хотите интересненькое поглядеть? У меня, на задворках, доктор живёт, а к нему, на свидания, барыня одна — не наша, приезжая — ходит. Я с чердака в слуховое окно гляжу, как они забавляются; окошко у них наполовину занавешено, и через верхнее стекло очень подробно видать забавы ихние. Я даже бинокль у татарина, по случаю, купил и кое-когда приятелей приглашаю для забавы. Очень интересное распутство…
Парикмахер Балясин называет себя «градским брадобреем». Он — длинный, тонкий, ходит развернув плечи и гордо выпячивая грудь. У него голова ужа — маленькая, с жёлтыми глазами, взгляд ласково-недоверчивый. Город считает его умным человеком и лечится у Балясина более охотно, чем у земского доктора.
— У нас естество простое, а доктора — это для образованных людей, — говорят горожане.
Парикмахер ставит банки, пускает кровь, недавно срезал пациенту мозоль, и пациент умер от заражения крови. Кто-то пошутил:
— Усердный; ему говорят: срежь мозоль, а он всего человека срезал с земли…
Балясина одолевает мысль о непрочности бытия.
— Я думаю — врут учёные, — говорит он. — Неизвестна им точность ходов солнца. Я вот гляжу, когда солнышко заходит, и думаю: а вдруг не взойдёт оно завтра? Не взойдёт и — шабаш! Зацепится за что-нибудь, — за комету, скажем, — вот и живи в ночи. А то — просто остановится по ту сторону земли, тут нам и крышка навечной тьмы. Надо полагать — у солнца тоже есть свой характер. Придётся нам тогда, для жизни, леса жечь, костры раскладывать.
Похохатывая, щуря глаза, он продолжает:
— Ха-арошее небо у нас будет тогда: звёзды есть, а — ни солнца, ни месяца! Вместо месяца чёрный шарик будет торчать, коли верно, что месяц у солнца свет занимает. Как хошь, так и живи — ничего не видать. Для воров — удобно, а для всех других сословий — очень неприятно, а?
Однажды, подстригая мне волосы, он сказал:
— Ко всему люди привыкли, ничем их не испугаешь, ни пожарами, ничем. В иных местах — наводнения бывают, землетрясения — у нас ничего! Холеры — и то не было, а кругом везде — холера. Человеку же хочется необыкновенного чего-нибудь, страшного. Страх для души, как баня для тела, очень здорово…
Одноглазый арендатор городской купальни — он же «картузник», делает фуражки из старых брюк — человек, которого город не любит, боится. Встречая его на улицах, горожане опасливо сторонятся и смотрят вслед ему волками, а иной идёт прямо на картузника, наклоня голову, точно собираясь боднуть его. Тогда картузник уступает дорогу и сам смотрит в затылок дерзкого человека, прищурив глаз, усмехаясь.