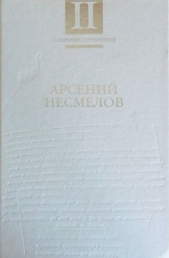Том 15. Рассказы, очерки, заметки 1921-1924

Том 15. Рассказы, очерки, заметки 1921-1924 читать книгу онлайн
В пятнадцатый том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1921–1924 годах. Все они, за исключением очерка «О Михайловском», входили в предыдущие собрания сочинений.
Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким. В последний раз большинство из них редактировалось писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Подавленный, я слушал все более затейливо гнусные возгласы Гладкова, циническое чтение «химика», глухой рев хора и смотрел на человека, которого заживо отпевали, служа над ним кощунственную литургию.
Сложив руки на груди, он шевелил губами, неслышно бормотал и кричал что-то, моргал вытаращенными глазами, глупо улыбался и — вдруг испуганно вздрагивал, пытаясь соскочить с нар, — хористы молча прижимали его к доскам.
Вероятно, «церемония» показалась бы менее отвратительной, если бы грязные призраки смотрели на нее как на забаву, игру, — если бы они смеялись, хотя бы, смехом циников, смехом отчаяния «бывших людей», изуродованных жизнью, горько обиженных ею. Но они относились к своему делу с угрюмой напряженностью убийц, они вели себя, как жрецы, принося жертву духу болезненно и мстительно разнузданного воображения.
Обессиленный, онемев, я чувствовал, что страшная тяжесть давит меня, погружая в невылазную трясину, что эти призрачные люди отпевают, хоронят и меня. Помню, что я глупо и растерянно улыбался и был момент, когда я хотел просить:
— Перестаньте, это нехорошо, — это — страшно и вовсе не шутка.
Особенно резал ухо и сердце тонкий голос «пианиста»; пианист надорванно выл, закрыв глаза, закинув голову, выгнув кадык; его вой, покрывая хриплые голоса других певцов, плавал в дымном сумраке, и как-то особенно сладострастно обнажал мерзость слов. Меня мутило звериное желание завыть, зарычать.
— Могила! — крикнул Гладков, взмахивая кадилом-кастрюлей.
Хор во всю силу грянул:
и — вошла баба с перебитым носом, совершенно голая, она шла приплясывая, ее дряблое тело вздрагивало, груди кошелями опускались на живот, живот свисал жирным мешком на толстые ноги в лиловых пятнах шрамов и язв, в синих узлах вен.
Маслов встретил ее непристойным жестом, дьякон Гладков повторил этот жест, баба, взвизгивая гадости, приложилась к ним поочередно; хористы подняли ее за руки, за ноги и положили на нару рядом с отпетым.
— О-о, не надо, — крикнул он визгливо, попытался спустить ноги с нар, но его прижали к доскам и под новый, почти плясовой, а все-таки — мрачный мотив отвратительной песенки, баба наклонясь над ним, встряхивая грязно-серыми кошелями грудей, начала мастурбировать его.
Тут я вспомнил «Королеву Марго» — лучшее видение всей жизни моей, — в груди ярко взорвалось что-то, я бросился на эти остатки людей и стал бить их по мордам.
…К вечеру я нашел себя под насыпью железнодорожного пути, на груде шпал, пальцы рук моих были разбиты, сочились кровью, левый глаз закрыла опухоль. С неба, грязного как земля, сыпался осенний дождь, я срывал пучки мокрой жухлой травы и, вытирая ею лицо, руки, думал о том, что было показано мне.
Я был здоров, обладал недюжинной силой, мог девять раз, не спеша, истово перекреститься двухпудовой гирей, легко носил по два пятипудовых мешка муки, — но в этот час я чувствовал себя совершенно обездушенным, ослабевшим, как больной ребенок. Мне хотелось плакать от горькой обиды. Я жадно искал причаститься той красоте жизни, которой так соблазнительно дышат книги, хотел радостно полюбоваться чем-то, что укрепило бы меня. Уже наступило для меня время испытать радости жизни, ибо все чаще я ощущал приливы и толчки злобы, — темной жаркой волною она поднималась в груди, ослепляя разум, сила ее превращала острое мое внимание к людям в брезгливое, тяжелое презрение к ним.
Было мучительно обидно, — почему я встречаю так много грязного и жалкого, тяжко глупого или странного?
Было страшно вспоминать «церемонию» в ночлежке, сверлил ухо крик Гладкова:
— Могила! —
и расплывалось перед глазами отвратительное тело бабы, — куча злой и похотливой мерзости, в которую хотели зарыть живого человека.
И тут, вспомнив разнузданность «монашьей жизни» Петровского, я почувствовал, как невинно бешенство плоти здоровых людей, сравнительно с безумием гнили, не утратившей внешний облик человека.
Там было некое идолопоклонство красоте; там полудикие люди молились от избытка сил, считая этот избыток грехом и карою, — может быть, бунтуя в призрачной надежде на свободу, боясь «погубить душу» в ненасытной жажде тела.
Здесь — бессилие поникло до мрачного отчаяния, до гнуснейшего, мстительного осмеяния того инстинкта, который непрерывно победоносно засевает опустошенные смертью поля жизни и является возбудителем всей красоты мира; здесь свински подрывали самый корень жизни, отравляя гноем больного воображения таинственно прекрасные истоки ее.
Но — что же это за жизнь там, наверху, откуда люди падают так страшно низко?
1922 г.
О первой любви
…Тогда же, судьба, — в целях воспитания моего, — заставила меня пережить трагикомические волнения первой любви.
Компания знакомых собралась кататься на лодках по Оке, мне поручили пригласить на прогулку супругов К. - они недавно приехали из Франции, но я еще не был знаком с ними. Я пошел к ним вечером.
Жили они в подвале старого дома, против него, не просыхая всю весну и почти все лето, распростерлась во всю ширину улицы грязная лужа; вороны и собаки пользовались ею как зеркалом, свиньи брали в ней ванны.
Находясь в состоянии некоторой задумчивости, я ввалился в квартиру незнакомых мне людей подобно камню, скатившемуся с горы, и вызвал странное смятение обитателей ее. Предо мною, заткнув дверь в следующую комнату, сумрачно встал толстенький, среднего роста человек, с русской окладистой бородой и добрым взглядом голубых глаз.
Оправляя костюм, он неласково спросил:
— Что вам угодно?
И поучительно добавил:
— Раньше, чем войти, — нужно стучать в дверь!
За его спиною, в сумраке комнаты, металось и трепетало что-то, похожее на большую белую птицу, и прозвучал звонкий, веселый голос:
— Особенно, — если входите к женатым людям…
Я сердито спросил: те ли они люди, кого мне нужно? И когда человек, похожий на благополучного лавочника, ответил утвердительно, — объяснил ему, зачем я пришел.
— Вас прислал Кларк, говорите? — солидно и задумчиво поглаживая бороду, осведомился мужчина и в ту же минуту вздрогнул, повернулся волчком, болезненно восклицая:
— Ой, Ольга!
По судорожному движению его руки мне показалось, что его ущипнули за ту часть тела, о которой не принято говорить, — очевидно, потому, что она помещается несколько ниже спины.
Держась за косяки, на его место встала стройная девушка, с улыбкой рассматривая меня синеватыми глазами.
— Вы — кто? Полицейский?
— Нет, это только штаны, — вежливо ответил я, а она засмеялась.
Не обидно, ибо в глазах ее сияла именно та улыбка, которую я давно ожидал. Видимо — смех ее был вызван моим костюмом; на мне были синие шаровары городового, а вместо рубахи, я носил белую куртку повара; — это очень практичная вещь: она ловко играет роль пиджака и, застегиваясь на крючки до горла, не требует рубашки. Чужие охотничьи сапоги и широкая шляпа итальянского бандита великолепно завершали мой костюм.
Втащив меня за руку в комнату, толкнув к стулу, она спросила, стоя предо мной:
— Почему вы так смешно одеты?
— Почему — смешно?
— Не сердитесь, — дружески посоветовала она.
Очень странная девушка, — кто может сердиться на нее?
Бородатый мужчина, сидя на кровати, свертывал папиросы. Я спросил, указав глазами на него:
— Это — отец или брат?
— Муж! — убежденно ответил он.
— А что? — смеясь, спросила она.
Подумав, рассматривая ее, я сказал:
— Извините!
В таком лаконическом тоне беседа продолжалась минут пять, но я чувствовал себя способным неподвижно сидеть в этом подвале пять часов, дней, лет, глядя на узкое, овальное личико дамы и в ее ласковые глаза. Нижняя губа маленького рта ее была толще верхней, точно припухла; густые волосы каштанового цвета коротко обрезаны и лежат на голове пышной шапкой, осыпая локонами розовые уши и нежно-румяные девичьи щеки. Очень красивы руки ее, — когда она стояла в двери, держась за косяки, я видел их голыми до плеча. Одета она как-то особенно просто — в белую кофточку с широкими рукавами в кружевах и в белую же ловко сшитую юбку. Но самое замечательное в ней — ее синеватые глаза: они лучатся так весело, ласково, с таким дружеским любопытством. И — это несомненно! — она улыбается той самой улыбкой, которая совершенно необходима сердцу человека двадцати лет от роду, сердцу, обиженному грубостью жизни.