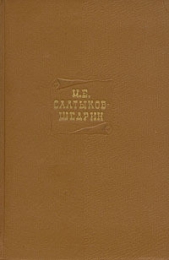Том 6. Статьи 1863-1864
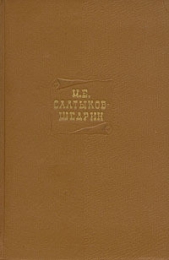
Том 6. Статьи 1863-1864 читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В шестой том настоящего издания входят публицистические произведения Салтыкова 1863–1864 гг.: хроникальное обозрение «Наша общественная жизнь»; тематически примыкающие к этому циклу статьи и очерки «Современные призраки», «Как кому угодно», «В деревне»; материалы журнальной полемики Салтыкова с «Русским словом» и «Эпохой».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Итак, с одной стороны отупение, с другой междоусобие, напоминающее бурю в стакане воды, междоусобие, не захватывающее ни одной жизненной струны, пошлое, мелочное… вряд ли подобный результат может казаться желательным кому бы то ни было.
Представьте себе публику, которая окончательно убедилась, что царь Фараон в непродолжительном времени выйдет из Чермного моря и полонит вселенную; или представьте другую публику, которая без устали толкует о том, какое значение следует придавать такому-то словечку, употребленному в таком-то журнале или газете… ведь это почти что сумасшедший дом! А это будет, будет несомненно, если в самом непродолжительном времени литературно-журнальный ад не поспешит устроиться на иных основаниях. Снова возвращаюсь к воспоминаниям о недавно прожитом нами коротком литературном периоде и снова говорю: там было много наивного, незрелого и даже негодного, но в то же время было и зерно чего-то такого, что, однако ж, не взошло. Отчего не взошло? — оттого, что не взошло. Желал бы я за всем тем воротиться к этому времени? — да, желал бы.
Не потому желал бы, что вижу там идеал, а потому просто, что вижу возможность, вижу то самое зерно, которое не взошло. Почтеннейшая публика! ужели же ты не видишь, что литературная нива наша положительно оскудевает, что она грозит в самом непродолжительном времени сделаться совсем-совсем непроизводительною! В самом деле, что произросло на этой ниве за последние три-четыре года? — Стрижи, стрижи и стрижи! О, смех и посрамление! Что будет, если журнальный ад вконец сделается смешным и забавным? Что будет, ежели и впрямь лизоблюд Девушкин сделается в нем сатаною? Что будет, если мир всецело исполнится бессмысленными кликами стрижей или истерическими воплями московских публицистов? ежели эти две уморительные силы предъявят серьезную претензию утвердить вселенную? Украсится ли тогда любезное наше отечество? Будет ли оно внушать страх врагам внешним, сниспошлет ли мир в души врагов внутренних, тех врагов, о которых без устали твердит нам московская пресса? Почтеннейшая публика! размысли об этом.
«Но вывод, практический вывод всей этой длинной иеремиады?» — спросит меня читатель. Сознаюсь откровенно, этого вывода нет и не будет. Но дабы не оставить читателя совсем без вывода, предлагаю вместо оного следующее заключение.
Я начал статью мою словами: «Журнальный ад — смешной, незлобивый и приятный ад». Для тебя, публика, это действительно смешной ад, который может служить даже моделью для замысловатой игрушки; но для делателей этого ада, для тех, которые, по воле рока, осуждены на пребывание в нем, это ад, полный тяжких и непереносных мук. В нем нет обязательного лизания раскаленных сковород, но есть толчение воды, в нем нет железных клещей, вынимающих ребра, но есть витье из песку веревок, в нем нет огненных орлов, прилетающих клевать сердца грешников, но есть бестолковая птица стриж, которая может в одну минуту напакостить столько, сколько во всю жизнь не напакостить самому расстроенному желудком орлу… Суди же сам, благоразумный читатель, какие мучения следует предпочесть.
Литературные кусты *
«Спрятался в кусты» * — выражение это обыкновенно употребляется, когда говорят об зайцах. Когда заяц убеждается, что ему грозит беда, что за ним гонятся, что ему нельзя маскировать своего пахучего следа, он бросается в кусты. Не потому он бросается, чтобы сознавал себя виноватым — в чем же заяц может быть виноват! — и не потому, чтоб надеялся, что кусты могут его защитить, даже заяц понимает, что кусты никогда никого защитить не могут, — а просто потому, что его влечет туда инстинкт животного самосохранения, что он теряет голову и, по своему малодушию, уже при жизни, так сказать, предвкушает муки предсмертной агонии.
До сих пор в русской литературе не существовало обычая прятаться в кусты; предполагалось, что литератор, как человек достаточно развитый в умственном отношении, более другого может понимать как содержание своего поступка, так и последствия, к которым он ведет, а следовательно, более другого обязан нести и нравственную ответственность за свои действия. Конечно, и литератор, как и всякий другой человек, мог впадать в ошибки, мог увлекаться; бывали даже образчики литераторов очень блудливых. Все это в порядке вещей, и за такие поступки иногда крепко доставалось согрешившим. Но никогда не бывало, чтоб уличаемый <не> отпирался от своего действия, чтоб он не оправдывался, не объяснял своего поступка, не сознавался в грехе или, по малой уже мере, не отвечал на справедливые обвинения упорным молчанием. Если ошибка была следствием ложного убеждения и обвиняемый продолжал оставаться при прежнем мнении, то он настаивал на своей правоте посредством целого ряда доказательств и вообще старался обставить себя наиболее выгодным образом; если ошибка была следствием простого неразумия, то согрешивший или сознавался, или молчал. Но никогда никто не говорил: «Помилуйте! Я этого не делал! Это не я, это кошка сделала!» Никто таким образом не говорил, потому что подобные ответы несовместны с достоинством сколько-нибудь уважающего себя человека, что они могут быть извинены только в ребенке, да и то в ребенке забитом, постоянно находящемся под страхом розги.
Обычай прятаться в кусты и ссылаться на кошку, вместе с другими глупыми обыкновениями, как-то: говорить речи без подлежащего, сказуемого и связки, подсматривать, подслушивать, соперничать и т. п., впервые введен у нас «Эпохою». Этому всемирному органу стрижей предстояло совершить великий подвиг в русской литературе; ему предстояло доказать, во-первых, что в литературных занятиях могут участвовать и птицы и, во-вторых, что при помощи этих птиц литература может на время превратиться в урну, переполненную сплетническими помоями. Подвиг этот «Эпоха» совершает неуклонно и с упорством, достойным лучшей участи. Ничто не удерживает ее на этом пути: ни литературная совесть, ни обязательная опрятность литературной формы. Она сама как бы сознается, что на нее следует смотреть совершенно особенным образом, что к ней ни под каким видом нельзя прилагать принцип вменения, подобно тому как это делается относительно всякого другого литературного органа. Она сама как бы говорит: «Сегодня я сделала пакость, а завтра от нее отопрусь — кто с меня взыщет? — всякий плюнет и отойдет прочь!» Расчет, быть может, и верный, но в то же время положительно неслыханный и невиданный в русской литературе до появления «Эпохи». В этом смысле она действительно составила эпоху.
Чувство полнейшего негодования овладевает при чтении августовской книжки «Эпохи» за текущий год. Можно защищать фальшивую мысль, можно быть парадоксальным, можно даже, во что бы то ни стало, быть преданным известному порядку идей — все это явления, конечно, очень печальные, но которые человеческий разум потому уже допускает, что их можно оспаривать, а следовательно, и победить; но никак не позволительно являться в люди с одной искреннею нелепостью, с одним непроходимым малодушием.
«Эпоха» начала свое существование тем, что в 1–2 №№ выпустила на счет «Современника» сплетню *; дело шло о каких-то несогласиях, будто бы возникших между «Современником» и другим журнальцем, который «Эпоха», по свойственной ей проницательности, считает солидарным с «Современником»; над этими несогласиями «Эпоха», разумеется, веселенько подсмеивалась. Конечно, вся эта история была выдумана затем единственно, чтобы кормиться ею как можно долее (ибо где никогда не было согласия, там, естественно, не может быть и несогласия); но спрашивается: если б и в самом деле мнимо-существовавшее между двумя литературными органами согласие вдруг превратилось в несогласие, — есть ли тут повод для хихиканья и настоит ли надобность показывать в кармане кукиш? Очевидно, что повода нет и надобности не настоит и что роль третьей стороны в подобном деле заключается единственно в оценке мнений обеих враждующих сторон и в произнесении своего собственного суждения. Однако «Эпоха» предпочла показать кукиш. На этот кукиш «Современник» отвечал комедией «Стрижи» *. Статья эта не относилась ни к одному из сотрудников «Эпохи» в частности, не имела даже специально в виду ни одной статьи этого журнала; но она заключала в себе полную характеристику таких намерений и воззрений, которые по своей сущности вполне заслуживали наименования птичьих. — Этого было достаточно, чтобы каждый из пернатых в особенности и все пернатые в совокупности почувствовали себя уязвленными.