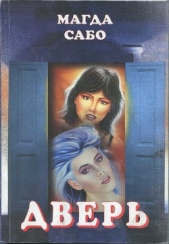Отверзи ми двери

Отверзи ми двери читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Могли ли иудеи, хоть на мгновение, согласиться со всеми этими и подобными им мыслями? Можно представить себе, какую они вызвали ярость, бешенство у всех - и у правоверных, только смеющихся над тем, что распятый вместе с разбойниками раб был Мессией, и у тех, кто признав это, не в силах были перечеркнуть не просто ведь собственную жизнь, а жизнь всего народа, в которой без убежденности в его исключительности для них не было смысла. Согласиться с тем, что Закон, данный им Моисеем - мертвая буква, а Мессия, которого они столько столетий ждали и наконец дождались, был одновременно Мессией язычников - поставить себя и свое избранничество рядом с необрезанными собаками, признать себя столь же и более грешными, согласиться с тем, что их будут судить одним и тем же судом там, а здесь сесть за один стол, преломить с ними хлеб?!..
Что им было до того, что человек, сказавший все это, был иудей из иудеев, фарисей и сын фарисея, чья трагическая судьба со всей бездной ее падения и невероятностью взлета с неопровержимостью свидетельствовала о единственном пути для человека, ищущего Истину и живущего в Ней; что им было до того, с какой нежностью и страданием за погибающий в своем чванливом упорстве народ он к ним обращался, убеждая их в том, что Бог не отверг свой народ, который Он знал наперед, что от их падения спасение язычников, а раз это их падение и оскудение - богатство миру, то тем более их полнота, а раз она даже в падении, что же будет в принятии Истины! Что все ужасное, что с ними произошло, их духовная слепота - отчасти и до времени, а когда войдет полное число язычников, то весь Израиль спасется. Что им было до того, что гонимый и презираемый ими человек сказал о своей любви к ним уж совсем невозможное: что сам желал бы быть отлученным от Христа за братьев своих, родных ему по плоти... Нет, все это ни на мгновение не примирило их с ним, не прекратило и не утишило их ненависти: Закон дан был только им, в посрамление всем прочим, у которых его не было. Их Бог может быть милосерд только к избранному Им народу, и лишь смеется над остальными. В одном древнем еврейском манускрипте так и говорится, что когда другие народы придут к Господу просить и для себя Закона, Он только посмеется - единственный случай, когда Он смеется над своей тварью, хотя Он смеется каждый день со своими тварями, особенно с Левиафаном...
- Это ужасно, - сказала Маша.
- Это правда, - ответил Лев Ильич. - Это потому и ужасно, что правда... Но я уж закончу.
Он вернулся, вошел в этот страшный гибельный город спустя двадцать лет в праздник Пятидесятницы. Сначала он хотел поспеть к Пасхе, но его задержал мятеж в Эфесе, потом не было корабля. Это и спасло его тогда, потому что постоянные волнения, бесконечно сотрясавшие город, разразились в ту пору невероятным кровопролитием и, окажись он тогда там, ему б никак не уцелеть. Он и сейчас шел на явную погибель, и знамения и пророчества много раз ему ее предрекали. Во время его последней остановки в Кесарии некто Агав, взяв его пояс и связав себе руки и ноги, сказал: мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут язычникам. Близкие умоляли его не идти дальше, он же сказал, что хочет и готов умереть за имя Господа Иисуса.
Можно представить, с каким волнением он вступил в город, после стольких лет разлуки узнавая камни, улицы и дома, вспоминая то, что всегда живет в памяти человека - любовь, ведомые только ему, и значащие что-то лишь для него одного, с чем-то связанные радости и печали. Только, наверно, мало было радости в этом его последнем свидании с городом, ибо первое, что встретилось на его пути еще за воротами, за городской стеной - был гигантский вековой кедр, под которым он стоял, когда терзали Стефана... Он смешался с толпой, спутники, а среди них один из его последних учеников необрезанный язычник Трофим, старались загородить его, потому что несмотря на то, что юношу Савла трудно было бы узнать в этом согбенном лысом старике, но стоило прозвучать хотя бы одному неосторожному слову, и оно стало бы искрой, мгновенно взорвавшей бы эту постоянно клокочущую толпу, как гигантскую бочку с порохом.
Он и не ждал радостной и теплой встречи с теми, кому принес известия о тысячах им обращенных, о новых церквах, воздвигнутых Богом его служением чуть ли не по всему ведомому им миру, ему предшествовали его послания церквам, уж несомненно дошедшие и сюда, разве одни только эти пламенные страницы не должны были вызвать хотя бы уважение и благодарность за его невероятный подвиг? Он принес, кроме того, Иерусалимской церкви милостыню, собираемую им у язычников - и размеры этого приношения несомненно превзошли ожидаемое.
Апостолов Петра и Иоанна не было тогда в Иерусалиме. Его принял Иаков величественный, как ветхозаветный пророк, значительный, как первосвященник, и речь, услышанная Павлом в ответ на все его сообщения, не могла не поразить его, хотя ему и не нужна была благодарность. Ему было сказано, что здесь, в этом великом городе, много тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители Закона, а о нем наслышаны как о человеке, решившемся учить отступлению от Моисея и несоблюдению обычаев. Ему было предложено совершить один из мертвых иудейских обрядов очищения, взяв с собой по обычаю четырех бедняков, имеющих на себе обет, заплатить за них - за приносимых в жертву животных, провести вместе с этими назореями семь дней в храме, глядя на обряд жертвы всесожжения, на то, как будут варить убитых баранов, как назореям будут стричь головы, сжигать волосы над кипящим котлом, стоять с опресночными лепешками, возносимыми в качестве жертвы перед Господом... Это было невозможно для Павла: братья, к которым он пришел, вынуждали его сделать то, что он считал пустым и бессмысленным, его отправляли в храм, где уж конечно и не могли не узнать, и трудно было бы предположить, что предлагавшие не понимали, к чему это приведет.
Почему он на это согласился? чтоб сохранить мир в церкви? потому что, будучи иудеем, не хотел отказом оскорбить народное чувство? или потому, что понимал и этот, как и все прочие пустые обряды, никчемной формальностью, не придавал ему значения - мертвая буква не затрагивала Истины, коль при этом не нарушалась его свобода.
Так ли, эдак, но он выполнил то, что ему предложили и, когда семь дней оканчивались, кто-то в храме узнал его.
Это не могло не случиться, но быть может здесь не было случайности? Мы никогда не узнаем об этом. Дикий крик, раздавшийся в храме, был подхвачен толпой во дворе. Его схватили и он был бы тут же разорван в куски, если бы это произошло вне храма - святое место нельзя было осквернять кровью. Его потащили во двор, где и кончили бы, но римляне, размещавшиеся в северо-западной части храма, в башне Антония, и бывшие всегда наготове, ибо волнения в городе не прекращались, услышав вопль, бросились в толпу, обнажив мечи.
Мгновенно весь город охватило безумие, тысячи людей кинулись к храму, в толпе кричали, что тот, кто учит против Закона, ввел в святилище необрезанного язычника. Решали минуты, но римляне успели раньше, вырвали его, уже в беспамятстве, из рук озверевших людей, сковали его цепями, и так и не поняв, что же произошло, стали пробиваться к крепости. Все увеличивавшаяся толпа сомкнулась вокруг, воины прокладывали себе дорогу рукоятками мечей, а потом, подняв Павла над головами, понесли, потому что тысячи рук рвали его, над толпой стоял, не прекращаясь ни на минуту, дикий крик: "Смерть ему!!"
Они пробились к башне, уже поднялись на несколько ступеней, прохладный ветер освежил разбитое лицо Павла, он открыл глаза и обратился по-гречески к оказавшемуся подле коменданту крепости: "Позволь мне говорить к народу..."
Тот был поражен и греческим языком этого жалкого, окровавленного иудея, и его спокойствием.
Ему расковали одну руку, он поднял ее, и отсюда со ступеней страшной башни Антония заговорил перед смолкшей толпой по-еврейски. Над ним было немыслимо синее небо, сумасшедшее солнце, а перед ним башня, стены и вдруг смолкшая, ждущая своего часа толпа. Во внезапно упавшей тишине он услышал даже, как за стеной храма закричал, заплакал от какой-то обиды ребенок. Он был дома, и это было его небо, его солнце, его город, плач его ребенка, и люди, ради которых он совершал свой подвиг. Поэтому он заговорил так просто и доверчиво, как может говорить только странник, вернувшийся после долгих лет наконец домой, рассказывающий близким, но уже забывшим о нем людям, о том, что с ним и как случилось. Он сказал кто он, где родился и вырос, не забыл о страшном, чем была отмечена его юность, и о тех преступлениях, которые он совершал во имя мертвой буквы закона, и о том, как на пути к новым, быть может еще большим злодеяниям, прямо на дороге его осиял Свет с неба, ослепил его и он услышал Голос, воззвавший его к новой жизни. Как он, прозрев, стал после этого свидетелем перед людьми в том, что он видел и слышал. Он сказал, как тот же Голос, здесь в храме, когда он молился, послал его в иные земли, потому что здесь не могли его услышать, и как он не сразу решился на это, потому что знал на себе грех пролитой крови...