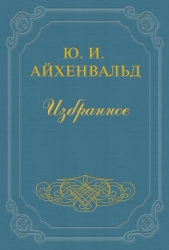Путешествие Глеба

Путешествие Глеба читать книгу онлайн
В четвертом томе собрания сочинений классика Серебряного века и русского зарубежья Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972) печатается главный труд его жизни – четырехтомная автобиографическая эпопея «Путешествие Глеба», состоящая из романов «Заря» (1937), «Тишина» (1948), «Юность» (1950) и «Древо жизни» (1953). Тетралогия впервые публикуется в России в редакции, заново сверенной по первопечатным изданиям. В книгу включены также лучшая автобиография Зайцева «О себе» (1943), мемуарный очерк дочери писателя Н. Б. Зайцевой-Соллогуб «Я вспоминаю» и рецензия выдающегося литературоведа эмиграции К. В. Мочульского о первом романе тетралогии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Теперь она принесла свою чашку, осторожно села за стол напротив и сквозь всю скромность свою чувствовала, что «бабушке» с ней все-таки веселее.
Как прежде, во время войны, при отце, когда Глеб приходил к этому чаю из флигеля, а Элли сидела с маленькой Таней направо, мать села сейчас за самовар. Это ее капитанский мостик. Пока ноги носят и руки служат, пока бьется сердце, она не покинет его, хотя бы корабль шел ко дну. И в этот апрельский вечер, при розово-зеленоватом отсвете из окна – по закатному небу тянулись нежные космы облачков – мать тою же твердой рукой наливала чай Ксане, в ее цветистую чашку.
Когда Ксана налила на блюдечко и, дуя на него, поднесла к губам, мать сказала:
– Я получила письмо от Глеба, из Москвы.
Ксана подняла на нее бледные, со слегка золотушными веками глаза.
– Они, наверно, скоро приедут?
Таня была двумя годами моложе ее. Здесь же, в этом Прошине, во время войны и начале революции проходили ее детские годы. Ксана ее обожала.
– Нет, не приедут.
– А как же… в Москве летом жарко. Она говорила негромко, робко.
– Совсем не приедут?
Мать налила себе в чашку и положила кусочек сахару.
– Глеб пишет, что они уезжают за границу. Ему разрешили. Он хворал, ему нужно оправиться.
– Надолго уедет?
– Не знаю.
Ксана допила с блюдечка, отодвинула чашку. Смотрела она теперь выше стола, на фотографическую группу в рамке на стене – среди инженеров там сидел моложавый еще и веселого вида отец.
– И Танечка уезжает?
– И Танечка. И тетя Лена. Все.
Мать вздохнула и перевела разговор на школу, на новую учительницу в Поповке, куда ходила Ксана. На уроки. Труднее ли теперь задачи? (Арифметика всегда была бедой для Ксаны. Когда Глеб жил здесь, он спасал ее иногда от курьеров, которые неизвестно где встретятся, или выручал по части бассейна, который неизвестно когда наполнится. Но теперь она была беззащитна.)
Мать надела пенсне и не без строгости на нее поглядела.
– Ты что же это, не слышишь? Почему ты не отвечаешь? Плечи у Ксаны вдруг дрогнули, она всхлипнула и неловко припала головой к руке «бабушки».
– Я теперь… Танечку… никогда не увижу. И тетю Лену… Мать всегда считала ее слабой и нервной.
– Перестань, перестань… Как не стыдно… И Таня вернется, и тетя Лена, и Глеб.
Но Ксана продолжала плакать.
– Нет, я уже знаю… бабушка, я уже знаю…
– Ничего ты не знаешь и не изволь хныкать. Неси тетрадки, я подиктую тебе.
Ксана повиновалась. Но не Бог весть что вышло из этой диктовки. Слезы промыли по щекам Ксаны, пухло-бледным, дорожки. Кой-где блестело в них влажное серебро. Голова же плохо работала.
Взяв тетрадку, мать сквозь пенсне строго посмотрела на ее произведение. Ошибок было достаточно.
– «Хлеб» пишется через ять, – сказала она.
Серые, слегка воспаленные глаза Ксаны от слез покраснели. Она была теперь покорна, безучастна. Зачеркнула е, написала ять.
– В школе у нас учат без ять..
– Да, новое правописание… Я забыла. Ну, зачем же ты поправляешь? Если учат так, то и оставь.
Ксана молча взяла ее руку и поцеловала.
– Я хочу так, чтобы тебе нравилось.
Мать улыбнулась.
– Дурочка, дурочка… Я старая. Мало ли что мне нравится. Теперь все по-другому.
Она обняла Ксану и поцеловала в прямой пробор на голове – редкий знак нежности.
– Я скоро умру, а тебе еще долго жить. Ты должна делать, как другие.
Ксана подняла на нее глаза. В них было нечто серьезное и не совсем детское.
– Нет, я хочу, как ты. Я тебя люблю.
Мать не весьма одобряла чувствительность. Полагала, что это расслабляет, а теперешняя жизнь сурова. Поэтому перевела разговор на арифметику и другие уроки.
Вечер протекал, как полагается. Через комнату отца, где стоял все еще его верстак и на рогах висело ружье, старый патронташ времен Устов и сетка для дичи, мать проходила к себе, что-то разбирала в комнате, вынимала, перетряхивала, выносила в столовую. Что-то штопала и чинила, потом ужинала и раскладывала пасьянс. Теперь отец не мешал ей, не учил стратегии. Из его комнаты шло то же молчание вечности, которое наступило, когда затихли последние его хрипы, два года назад.
Мать раскладывала карты беспрепятственно. Ксана спала в кухне. Прасковья Ивановна также.
– О, Боже мой, Боже мой! – вздыхала мать, скрываться было уже не от кого.
Перед тем, как ложиться спать, она вдруг взяла свечку и подошла к окну – взглянуть на термометр. Это делал всегда отец. Нередко она говорила ему: «Не понимаю, для чего это тебе каждый день смотреть на термометр?» Но сейчас не могла объяснить, для чего это ей самой нужно и почему она это сделала.
Зима была нелегка для Элли, но она чувствовала себя бодро. Огромная комната в Кривоарбатском, где посреди помещалась печь, сложенная слепым каменщиком, в этом году обогрелась. Таня в ушастой шапке и валенках ходила в школу. Глеб в литературную кооперацию – работал среди своих. Но хозяйство – на Элли. Дрова, печка – на Элли. Ее быстрые ноги таскали салазки и по Арбату, забредали и дальше: вплоть до родительского дома на Земляном валу, где у Курского вокзала росла она некогда нервной, болезненной девочкой, потом вы росла и окрепла, распустилась пышным цветом жизненности и горячности. Как всегда бывает, из родного гнезда ушла. Иногда даже ссорилась с отцом, Геннадием Андреичем (но никогда с матерью), опять мирилась, вновь вскипала гневом и потом таяла в слезах – но теперь многое уже навсегда прошло, жизнь с Глебом сложилась, на Земляном валу положение было признано (как великая держава признает, наконец, после долгих колебаний, вновь возникшее, не совсем подходящее государство).
Глеб бывал там иногда, вполне благополучно. До войны Геннадий Андреич угощал даже его красным вином (Brane Cantenac, бочонки которого выписывал из Бордо.)
Кроме Исторического музея, которым заведовал, нумизматики, где имел европейское имя и сфрагистики – науки о древних печатях, отцом которой для России почитался, любил Геннадий Андреич и литературу.
– Разумеется, не эту современную-с, – говорил, презрительно потряхивая головой, вскидывая пенсне на карие, умные глаза. – А Пушкина.
Пушкина он обожал, как и Петра Великого. (Элли с детства помнила страшную, с выпученными глазами, маску императора в кабинете отца.) Когда бывал в добром настроении, то, наливая Глебу за обедом вина, он приговаривал многозначительно и весело:
– Да-с, это винцо. Пушкин в нем понимал.
Теперь времена Brane Cantenac'ов ушли. Дом на Земляном валу, приземистый, с полуподвальным этажом, палисадником на Садовую и садом слева, где рос дубок из желудя Элли-девочки, дом с бюстом Юпитера при входе, копией Каналетто в зале с роялем и фикусом в кадке, с восковыми слепками монет, медалей, древних печатей в кабинете Геннадия Андреича, был теперь уплотнен. Охранные грамоты музея охраняли еще некоторые комнаты, в кабинет со слепками не въезжал еще товарищ деревообделочник, но уже корабль дал течь и шел с креном.
Из этого-то давнего гнезда, с Земляного вала на Арбат, по Воронцову полю, мимо Хитрова рынка по Солянке и влекла раз зимой, этой зимой 1922 года, Элли салазки с барахлишком – среди коего целый комод: напрягала в горку молодое еще, резвое тело, когда у Варварских ворот неожиданно встретила отца.
Геннадий Андреич в мерлушковой черной шапке, в пальто на меху, с бобровым воротником, шел из Исторического музея, где принимал нынче на хранение архив князя Урусова. Увидев дочь, тащившую, как ему показалось, целый воз, содрогнулся.