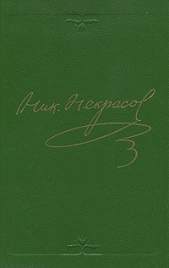Три страны света

Три страны света читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Прогулки стали приятнее, появилась возможность даже продолжать иногда промыслы. В половине марта местами начались проталины, показалась земля, южные скаты гор покрылись кудреватым мохом, скоро он стал цвести. Спустя еще несколько времени малые озера, промерзшие до дна, стали оттаивать, появились ручьи. В мае начался лет гусей, скоро появились их несметные стада, промысел их был легок и удачен. Весна быстро развивалась. С гор лились ручьи, открывалась земля, начало ломать льды. Все ожило. Ожили и наши промышленники.
Нужно было похоронить покойника. Как только явилась возможность, они с чрезвычайным трудом приготовили неглубокую могилу и разрыли сугроб, чтоб переложить в нее своего товарища. Он был совершенно таков, каким положили его зимой. Лицо бледное, немного припухшее, глаза полуоткрытые, на губах странная, как будто сердитая и угрожающая улыбка. Глядя на это мертвое лицо, Хребтов вспомнил свое плавание на льдине, вспомнил стоны и жалобы Трифона, его страх умереть, покушение овладеть собакой, убить ее, и грустные мысли пришли ему в голову. Каютин тоже не без внутреннего движения смотрел на мертвеца. Положив товарища в могилу, бросив на него горсть земли, промышленники долго молились о нем, наконец зарыли могилу и поставили над ней крест с именем покойника, числом и годом. Весь тот день было им грустно, и только на другое утро принялись они за свои промыслы. Весна – лучшее время для промыслов на Новой Земле, и теперь предстояла им самая жаркая и самая прибыльная работа.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
Глава I
Был пятый час утра. Двадцатиградусный мороз давал себя знать каждому, кто не принял против него надежных мер. Но он, казалось, не имел никакого влияния на молодого человека в холодной шинели, который, быстро переходя широкую улицу, размахивал руками и говорил сам с собою:
– Партикулярное место… да! наконец у меня есть партикулярное место… теперь я буду иметь средства…
Тут он стал рассчитывать по пальцам и, наконец, остановился у огромного дома, испещренного множеством вывесок. Глаза его обратились на окна второго этажа, над которыми красовалась вывеска во всю длину дома. Окна не были освещены.
Постояв перед ними, молодой человек начал прохаживаться мимо дома.
Фонари, зажженные с вечера, еще горели, и освещенный, безлюдный проспект представлял воображению его чудную картину спокойствия и счастия жителей роскошной улицы. Очень грустной показалась ему недавно покинутая комната в полусгнившем домике Семеновского полка, с перегородкою, из-за которой слышались тоскливые вздохи старухи-матери. Почти с первых дней юности он жил в этом домике и прожил в нем немало лет: но не жаль ему полусгнившего домика, где он бесплодно убил свои свежие силы в вечной битве с нуждой, в этой всесокрушающей битве; не нашел он в памяти своей ни одного отрадного дня из нескольких лет, прожитых в полусгнившем домике… и не жаль ему этого домика. Но серьезное лицо его проясняется. Он снимает шляпу и благоговейно крестится на Казанский собор. В перспективе у него теперь сухая квартира; чрез несколько месяцев приведет он в эту квартиру свою старуху, ничего не подозревающую теперь о близкой перемене в их жизни, – и успокоятся и отдохнут, наконец, старые косточки, так долго, долго и много странствовавшие по горькому пути нищеты; а наконец, сам он не будет кашлять и пугать старуху опасностью лишиться в нем последней опоры.
Так мечтал молодой человек и не чувствовал двадцатиградусного мороза, и кашель его глухо отдавался в морозном воздухе, возбуждая подозрительное внимание будочника, готового прозакладывать голову, что этот кашель недаром, что этот кашель – сигнальный кашель, на который вот сию минуту ответит тем же кашлем забравшийся куда-нибудь на чердак вор и сбросит с крыши какой-нибудь узел с бельем или другим чем, – и чуткому уху его чудится уже и ответный сигнал, и узел, летящий к ногам молодого человека. Таково уже свойство людей – смотреть на все с точки зрения своей специальности!
Дело, однакож, было гораздо проще и чище. Молодой человек так обрадовался своему партикулярному месту, что, обязавшись являться к пяти часам утра, пришел гораздо раньше, и теперь дожидался, пока осветятся окна магазина.
Звали его Граблиным, Степаном Петровичем. Был он сын смотрителя и детство свое провел в деревне. Из жизни детства у него мало сохранилось воспоминаний. Помнил он реку с крутыми песчаными берегами, пастуха, с которым летом пропадал с утра до вечера. Он делился с пастухом колобками, которые давала ему мать, а тот ему делал разные свистульки и учил его играть на них. Помнил две-три песни, петые пастухом, когда он, лежа смотрел на бегущие облака, между тем как в горах вторилась и переливалась звонкая песня. Помнил, как отец, передав ему все, чему сам выучился самоучкой, то есть выучив его читать и писать, – все тосковал потом, что его долго "господь не приберет", потому что сироту скорее примут в школу. Да еще: как в одно утро он бегал в саду… в саду было весело, хорошо… его позвали домой – там стоял гроб, в нем лежал его отец, у гроба в ногах рыдала мать. А потом приехали незнакомые люди и увезли сиротку в школу. В школе он долго заливался слезами, забравшись в угол в темном коридоре и перебирая в горячем воображении то рыдающую мать, провожавшую его до первой станции и оторванную, наконец, силою от него, то реку, пастуха и беседку, торчавшую на холме, в виде гриба, где он укрывался с пастухом от дождя; а между тем дровяной двор с бесконечным забором тоскливо смотрел на него и, казалось, тоже плакал. Дикарь не раз замышлял побег.
Образование кончилось благополучно: мальчик не приобрел слишком больших сведений, но и не утратил естественного смысла. Сидя в классе и уставив на толкующего учителя глаза, по-видимому полные внимания, он имел способность улетать в то же время воображением далеко, далеко – на родину, в "зелены луга". К тому же учителя щадили себя, и толкования в классах были не часто, а чаще в них раздавались голоса учеников, отвечавших один за другим уроки, вызубренные по тетрадкам и книгам. Впрочем, Граблин, заткнув уши, покачиваясь и повторяя по тысяче раз сряду одну фразу, не хуже других вытверживал все, что велели, точно так же, как охотно пел свои песни по требованию старшего ученика; только песни его не беспокоили, а крепко заученный урок, часто преследовал его и на яву и во сне. Ни с того, ни с сего вдруг пробарабанит он в мозгу, так что мальчик проснется и вздрогнет:
"Когда земля станет между солнцем и луною, тогда земная тень падает на луну, и на оной усматривается круглое черное пятно, а как круглые тени происходят от круглых тел, следовательно земля кругла".
В другой раз, как будто его же собственный голос дробит ему в ухо таблицу умножения или однообразно повторяет:
"Озера, в кои реки впадают, и из них вытекают; озера, в кои реки впадают, но из них не вытекают; озера, в кои реки не впадают, но из них вытекают…"
Даже по окончании ученья, целые два года неотступно преследовали его уроки. Примеры же на прилагательное: полный во всех его изменениях:
"свет полон обмана, жизнь полна забот", -
решительно не давали ему покоя среди тяжких трудов и угрожали проводить его в могилу.
Получив место с небольшим жалованьем, он вызвал к себе из деревни мать. Глубоко запали в его память и в сердце те редкие минуты, когда вдруг, бывало, среди общего жужжанья школьной братии, вызубривающей школьную мудрость по тетрадкам, раздается чей-нибудь голос:
– Обрадовать тебя, Граблин?
– Ну, – отвечает он, вздрогнув вдруг от какого-то отрадно болезненного чувства, быстро пробежавшего по всему его существу. – Ну? – повторяет он, веря и не веря мелькнувшей уже в уме догадке и страшно боясь обмануться.